Ситуация с безопасностью на шахтах остается критической: уровень производственного травматизма чрезвычайно высок. Причем в 70% аварий и несчастных случаев по-прежнему виноват человеческий фактор — нарушение работниками и руководителями угледобывающих предприятий норм промышленной безопасности. Это наводит на грустные мысли: помогут ли 100 млн. грн., выделяемые правительством на повышение безопасности в угольной отрасли, сдвинуть проблему с места?
О том, как сделать безопасной работу шахтеров, и в целом о развитии системы охраны труда — разговор с председателем Госгорпромнадзора Сергеем СТОРЧАКОМ.
— Любые средства на безопасность никогда не будут лишними и окупятся сторицей. Если, конечно, потратить их с умом. Но в целом проблема безаварийной работы шахт эффективно будет решена только тогда, когда их собственники будут нести реальную ответственность за людей и производство, а значит — неукоснительно соблюдать нормы промышленной безопасности и охраны труда.
Так, мы стали более уверенными в безопасной работе шахты «Красноармейская-Западная», самой крупной в стране и одной из самых опасных по горно-геологическим условиям, после прихода туда именно такого собственника. Сейчас же управление охраной труда на уровне предприятий остается слабым звеном в отрасли.
— Сергей Александрович, вы уповаете на чудо. Где взять в стране столько сознательных собственников?
— Они есть. Ведь собственник — это высшая элита страны. Надо только создать законодательные условия, при которых работодателей будет страшить сама мысль о возможной аварии.
— В смысле, ужесточить наказание вплоть до уголовной ответственности?
— Зачем же. Это не путь развития государства, избравшего европейские ценности. Намного результативнее экономически заинтересовать бизнес создавать на предприятиях безопасные условия труда. Должно быть, с одной стороны, экономическое стимулирование работодателя, чтобы соблюдать нормы и правила безопасности ему было просто выгодно. С другой — финансовая ответственность за несоблюдение этих норм и правил, в результате чего произошла трагедия.
— У вас есть конкретные предложения, как внедрить подобный правовой механизм?
— Комитет давно инициирует разработанные нашими специалистами изменения к законодательным актам по вопросам промышленной безопасности. С их принятием надолго отпадет потребность корректировать законы в этой сфере, и мы реально впишемся в европейские стандарты — директивы ЕС и конвенции Международной организации труда.
К примеру, собственник, допустивший резонансную аварию из-за нарушения требований промбезопасности и охраны труда, должен будет из собственных средств компенсировать затраты на ликвидацию ее последствий, а не требовать, как сейчас, выделения денег из правительственного резервного фонда. А также возместить Фонду социального страхования выплаты пострадавшим работникам.
Эффективным экономическим стимулом, считаю, станет дифференциация страховых взносов в названный фонд в зависимости от уровня безопасности, производственного травматизма и профзаболеваний на каждом конкретном предприятии. Чем меньше таких случаев, тем меньше взнос. Предлагаем дополнениями в Кодекс об административных правонарушениях увеличить в шесть раз сумму штрафов за невыполнение требований промбезопасности и охраны труда.
Эти и другие наши предложения помогут урегулировать партнерские отношения между государством и работодателями. Сформируется правовое поле для их экономической ответственности, которая лучше всяких репрессивных методов и административного давления заставит заботиться о безопасности производства.
— Находят ли ваши инициативы поддержку?
— Да, и прежде всего у самих работодателей. Однако их внедрение идет не так быстро, как хотелось бы. Так, поданный нами законопроект о дифференцированных тарифах снят с рассмотрения, поскольку Министерство труда и социальной политики внесло в Верховную Раду свой законопроект по вопросам профилактики производственного травматизма. Но вместо того, чтобы урегулировать наконец систему дифференциации тарифов (о чем на самых высоких уровнях говорится уже много лет), в нем вообще исключили такой принцип заинтересованности бизнеса в организации надлежащих условий труда.
У нас все еще принято акцентировать внимание, расходовать силы и средства на героическую ликвидацию последствий аварий, а не на последовательное устранение причин, которые к ним приводят. Большая часть государственного бюджета, выделяемая на эти цели, ориентирована на чрезвычайные ситуации и, соответственно, на развитие структур, которые ими занимаются. Хотя, согласитесь, было бы более рационально и морально (даже по отношению к тем же рискующим жизнью спасателям) прежде всего усиливать в стране систему профилактики и предупреждения промышленных трагедий. В том числе и государственный надзор в сфере промбезопасности и охраны труда. Тем более что промышленные аварии давно вышли за пределы самого производства. За них расплачиваются семьи пострадавших работников, жители городов и сел, вся страна в целом.
— Иными словами, вам не хватает финансов.
— Что здесь сказать — граничные объемы расходов нам сократили на треть. При этом, сами понимаете, мы не можем перевести свою работу на хозрасчет. А ведь мировой опыт давно доказал: гривня, вложенная в безопасность труда, возвратится государству пятью гривнями экономической выгоды, помогая предотвратить промышленные катастрофы, сберечь кадры и сохранить основные фонды.
Но дело не только в недостаточном финансировании. Стало едва ли не традицией каждый раз со сменой власти «реформировать» комитет: ликвидировать его вообще или присоединять к какому-то министерству на птичьих правах. Потом, после очередной резонансной аварии, нас опять восстанавливали, но структуру приходилось воссоздавать с нуля. Хотя во всем мире деятельность надзорных служб не зависит от политических раскладов. Я уже не говорю — от субъективных представлений того или иного государственного деятеля, оказавшегося у власти.
К изменениям в системе надзора надо подходить взвешенно и со всей ответственностью, помня, что за этим — жизнь и здоровье граждан страны. Безусловно, надзорная деятельность в стране требует реорганизации. Ведь сегодня чуть ли не в каждом министерстве есть свои инспекции, штат сотрудников которых иногда намного больше, чем реальный объем выполняемой ими полезной для страны работы. Причем, заметьте, они не несут никакой ответственности перед обществом и часто защищают не государственные, а ведомственные интересы.
— Хотите подмять под себя ведомственные инспекции?
— Нет, конечно. Каждый должен решать свои задачи. Но наш комитет, единственный из всех ведомств, ведающих вопросами охраны труда, занимается, кроме надзора, еще и управлением охраной труда, формируя в стране общую идеологию государственной политики в вопросах охраны труда и промышленной безопасности. И мы видим, что для более эффективной деятельности многочисленных инспекций требуется координация их работы. Поэтому и предлагаем создать соответствующий координационный совет при Кабмине.
— Это все — перспективы. Что делает комитет сегодня для снижения аварийности на предприятиях?
— Пока отсутствуют экономические рычаги воздействия на работодателей, мы вынуждены действовать решительно. А именно: внедрять жесткий контроль за соблюдением требований безопасности, прежде всего на шахтах, и при выявлении нарушений — штрафы, приостановка работ вплоть до закрытия предприятия, пока не будут устранены все нарушения.
Чтобы удерживать ситуацию с травматизмом, иногда вынуждены предпринимать неординарные шаги, к которым не прибегают надзорные системы других стран. Введенный на некоторых шахтах усиленный режим госнадзора, когда наши инспектора круглосуточно контролировали эти предприятия, позволил существенно снизить травматизм в угледобыче. С мая такой режим надзора действует в системе газоснабжения. Мы взяли на себя, по сути, функции ведомственного контроля, следя за проектированием, строительством и эксплуатацией газопроводов, особенно региональных газовых сетей.
— Кстати, ваше ведомство ведет себя как-то слишком тихо во всеобщей борьбе с таким чиновничьим злом, как коррупция.
— Не скрою, в нашей работе это явление присутствует. Безусловно, мы искореняем коррупцию, но без показного шума. Прежде всего, устраняем ее причины. Во-первых, так нормативно отстраиваем свою работу, чтобы в процедуре принятия решений максимально исключить коррупционную составляющую. Как результат, система получения разрешений в комитете признана самой прозрачной среди органов исполнительной власти. Во-вторых, стараемся создать инспекторам, на которых держится весь надзор, достойные условия их непростого труда.
Есть еще одна сторона медали. Важно защитить инспектора не только в материальном, но и, буквально, в физическом плане. Ведь нам часто приходится выдерживать невероятное давление со стороны тех, кто все еще считает возможным диктовать комитету свои условия, запугивать инспекторов расправами.
Проводим также большую разъяснительную работу. Сделали специальное обращение к инспекторскому составу о несовместимости наших задач и возложенной на нас ответственности с какими-либо поступками против совести и закона.
В том числе и такая наша принципиальная позиция позволила за последние десять лет уменьшить количество случаев производственных травм более чем в три раза, а несчастных случаев со смертельным исходом — на 35%.
— И все же определенную ответственность за каждую аварию можно возложить и на ваших сотрудников…
— Мы никогда не снимали с себя ответственности за пока еще недостаточный уровень промышленной безопасности в стране. Поэтому постоянно ищем пути усовершенствования системы государственного надзора и управления охраной труда. Создаем сейчас, к примеру, специализированные межрегиональные инспекции, которые обеспечат оперативный и эффективный контроль в таких потенциально аварийно опасных отраслях, как добыча нефти и газа, транспорт, охрана недр, химическая промышленность.
Особое внимание уделяем научно-технической поддержке госнадзора, усиливая работу Национального научно-исследовательского института промышленной безопасности и охраны труда, входящего в структуру комитета.
Наша работа на первый взгляд как будто не видна. Но за ней, без преувеличения, — спокойствие всей страны. Хочу заверить, у нас есть и силы, и знания, как вывести ситуацию с промышленной безопасностью на уровень развитых государств.










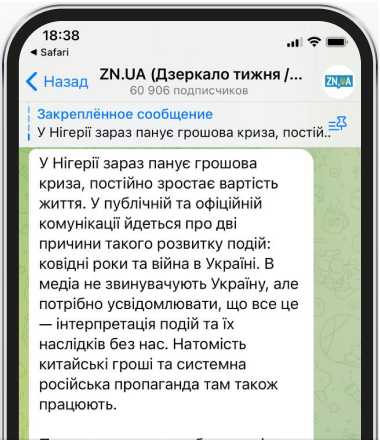





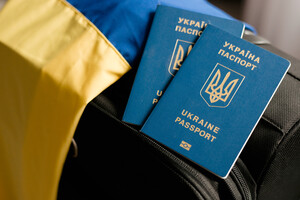

 Войти с помощью Google
Войти с помощью Google