Возможно, кто-то из старших почитателей боевых искусств помнит, как корейская система тхэквондо (знаю о терминологических особенностях, но пусть уже будет так) решительно вытеснила с рынка, казалось бы, непобедимое каратэ-до. С его жуткими легендами, суровыми, иногда кровавыми ритуалами и утонченной японской эстетикой.
Кроме сложной и продолжительной системы интриг, прямой государственной политической и финансовой поддержки, корейцы сделали гениальный ход.
Корейские ловкачи максимально снизили возрастной ценз учеников и максимально разработали систему протекторов на все части тела. Таким образом карапузы, обвязанные из головы до ног защитными подушками с корейской символикой, люто толкали друг друга в «поединках» под растроганными взглядами родителей, которым разрешалось присутствовать на занятиях.
Сейчас либеральные вкусы даже таких забав не поощряют, но тогда американский и канадский рынки боевых искусств просто обвалились под корейским «демпингом».
Отвечать всерьез на вопрос, почему южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал мемотворческим явлением, — то же самое что стороннику здорового питания анализировать популярность фаст-фуда. Это если говорить о явлении как о кино. Даже если расширить контекст до культурно-антропологического, ответ тоже будет весьма простой.
Корейскому театральному искусству, родившемуся из буддийских танцев с пением, по меньшей мере две тысячи лет. В XIV веке там создали специальный департамент (сандэ-тогам), говоря современным языком, отвечавший за театральные спектакли «каму пекхи», в приблизительном переводе — «сто развлечений с песнями и танцами». А Шекспир родится лет через двести.
Прошлогодний бюджет министерства культуры Южной Кореи — 5,4 млрд долл. Впрочем, хотя они уже давно начали заботиться о национальном производителе и все такое прочее, еще каких-то лет десять назад их массовые культурные кинопродукты были местечковыми. Их радушно потребляла лишь праматерь слезливых сериалов Латинская Америка.
Теперь общепризнанная художественная экспансия Южной Кореи является интегральной частью ее успешной технологической и политической экспансии в мире. Так же, как военные психологические операции PSYOPS являются интегральной составляющей физических действий военных подразделений. И так же, как и в военном деле, культурная дипломатия, «мягкая сила» требует постоянного пересмотра своего инструментария и приемов влияния.
Продажа «чего-то истинно корейского» не давала никаких ощутимых прокатно-финансовых результатов, как это часто бывает с фанатичными апологетами самобытности. Либо же, когда художник уж слишком точно начинал рассказывать о сути «корейскости», его ожидала судьба затравленного режиссера и сценариста Ким Ки Дука (умершего в прошлом году от ковида в Риге в ожидании права на постоянное проживание). Путь к сегодняшнему успеху «Игры в кальмара» прокладывали и «Парк Юрского периода», и «Олдбой» или «Паразиты», но это были еще тропинки, хотя и неплохо утоптанные.
«Игра в кальмара» у меня как у психолога прежде всего отождествлялась с экспериментами Филипа Зимбардо и Стенли Милгрема. Если говорить очень сжато, этот тип экспериментов показывал, образно говоря, какие черти и какое неимоверное их количество сидит в каждом человеке. И при каких обстоятельствах они берут верх над разумным, добрым и вечным.
Милгрему с судьбой его выводов повезло больше, чем Зимбардо. Во-первых, он умер задолго до того, как в социальной психологии расцвел либеральный ревизионизм. Во-вторых, он был евреем по происхождению, а также изучал механизмы тоталитарного подчинения, в частности на примерах нацизма. Его родственники пережили гитлеровские концлагеря. Это были и есть факторы, табуированные для критики субъекта.
Полевой опыт Зимбардо, больше известный как «Стэнфордский тюремный эксперимент», проведенный в 1971 году по заказу ВМФ США, ожидала более сложная судьба. После нескольких десятилетий неоспоримой славы его результаты подвергли сокрушительной массированной критике — от обвинений в аморальности до признания ошибочной самой методологии. Даже совершенно аналогичные, реальные события в тюрьме «Абу-Грейб» в 2004 году не стали для критиков аргументом. Хотя Милгрем в 1963 году провел в Йельском университете эксперимент с похожими выводами, но, как я уже говорил, Милгрему повезло, а Зимбардо — нет. Времена меняются, и наука вместе с ними.
«Игра в кальмара» зашла массовой аудитории по нескольким очевидным и нескольким не таким заметным причинам.
В очевидные зачислим:
- специфическую восточную театральность, умеренно экзотичную, но не-китайскую);
- использование все еще привлекательной франшизы игр с возможным смертельным финалом;
- беспрерывное преобразование индустрии компьютерных игр в дополненную реальность;
- эффективное употребление анимешных, марвел- и даже хентай-приемов, намеков, косвенных цитат.
Теперь о неочевидном. Авторы сериала создали этакий «клавишный инструмент», нажимая на символические клавиши которого можно удивительно легко войти в резонанс со страхами и ожиданиями современного массового человека.
Прежде всего это — современный страх ненужности, ненужность как вызов.
Он существенно отличается от дряхлого «отчуждения» Маркса и битницких сентиментов, от экзистенциалистских философствований 1970-х, от страха безработицы или одиночества. Современная ненужность личности в высокотехнологичном обществе, символом которой в сериале выступают вначале все рекруты Игры, во-первых, свидетельствует о рандомности, недетерминированности такой судьбы. Во-вторых, о ее демократичности, независимо от возраста, пола, образования, семьи и т.п.
Это очень точное попадание, потому что, собственно, на страхе личной никому ненужности, на постоянном болезненном напоминании о собственном болезненном существовании и держится весь империализм социальных сетей.
Вторая «клавиша» — гротескно показанный механизм создания социальной сети, здесь — из участников Игры. Где ежесекундно дружеские отношения (тоже не имеющие под собой никакой материальной основы) могут превратиться во вражеские. У этой демократической сети есть свои тайные авторитарные бенефициары.
Так и в реальности. Ни одно государство на самом деле не имеет целью максимально развить гражданское общество как эффективную горизонталь. Что бы там оно ради вида ни объясняло. Все авторитаристы у власти сегодня называют себя «либеральными демократами». Государство разными хорошими словами собирает участников своей Игры вместе, чтобы предоставить им максимально демократические возможности — для взаимного уничтожения.
Это продолжается до тех пор, пока общество\Сеть снова не проявят признаков контролированности и потребности в государстве. Те, кто руководит Игрой в сериале, — в архетипных богоподобных масках как бездушные интеллектуальные символы современного государства, континентального союза или мирового правительства. Это монополизация плодов глобализации. Здесь уже в зависимости от уровня личной конспирологии.
Третья «клавиша» — это нарастающая уязвимость человеческих эмоций перед все более совершенными механизмами влияния и управления поведением. Это, собственно, одна из причин панической атаки либеральных политиков и разного рода лидеров их общественного мнения. Есть очевидный факт, подтвержденный бесчисленными жертвами еще со времен Великой Французской революции, что свет знаний — это просто свет. Он сам по себе не делает человека лучшим. Он просто светит в человеческую душу, как в темную каморку, а что в ней обнаружится — совсем другая история. Зимбардо и Милгрем, образно говоря, предполагали, что в этой каморке — совсем не райские кущи.
Человеческие эмоции как были примитивными, так и остаются, потому что их электрохимический механизм у всех приматов одинаков уже десятки тысяч лет. Просто их осознание приходит к нам все сложнее, благодаря префронтальной коре главного мозга мы не пропускаем прямых сигналов выживания к миндалевидному телу, и на этом торможении возникла вся человеческая культура.
Кстати, о культуре. Нельзя обойти вниманием уже классический роман Уильяма Голдинга «Властелин мух» — об аристократически воспитанных детях, которые оказались из-за авиакатастрофы на безлюдном острове и вскоре превращаются в дикарей с междоусобицами и жертвоприношениями.
Вспомнить Голдинга следует в этом контексте еще и потому, что роман написан в 1954-м, годы Второй мировой были еще свежи, а сам роман является антитезой приключенческого романа 1858 года «Коралловый остров», где трое мальчиков прекрасно выживают на безлюдном острове благодаря своим навыкам (хотя бойскаутинг еще не придумали). «Игра в кальмара» является такой же антитезой прославления свободы, равенства и братства как неизменных ценностей.
Свобода выбора участия в Игре оборачивается тюремным режимом. Равенство перед правилами немедленно порождает дарвинистскую иерархическую борьбу за выживание. Братство заканчивается там, где нравственность означает признание никчемности всех предыдущих жертв и усилий. Это на шаг дальше от оруэлловского «1984», нет разных видов животных, лишь Homo Sapiens.
Четвертая «клавиша» — вера в неочевидное. Вера в неудержимый мировой прогресс человечества (с короткими перерывами на мировые войны, холокосты, геноциды и голодоморы) дожила до наших дней в виде новой религии, поклоняющейся искусственному интеллекту. Тот факт, что пометки на экранах компьютера или смартфона называются «иконками», весьма выразителен. Крестное знамение заменилось тыканием пальца в экран, но люди так же счастливо вздыхают от полученной эмоции. И этот сериал показывает нам модель диктатуры, которая базируется на свободном выборе людей.
То есть люди верили основополагающе, что их свободный выбор, какая-то там свобода воли могут что-то по сути решить в соревновании с большим капиталом, опирающимся на интеллектуально просчитанный алгоритм.
И все их действия в Игре логически убеждают зрителя, что свобода воли — это не больше чем совокупность ошибок, которые, конечно, делают тебя незаурядной индивидуальностью, но и сокращают путь к красивой смерти.
Обобщая: в противопоставлении интеллекта (как холодного, бездушного алгоритма) сознанию (как совокупности эмоционально пережитых ошибок) авторы выразительно отдают победу интеллекту. Это тоже прием косвенного цитирования, отсыл к дискуссиям о конфликте между алгоритмами информационных технологий и человеческим умом, порождающим новую социальную этику. Эта новая этика оправдывает цензуру и репрессии не по идеологическим причинам, а из-за очевидного несовершенства человеческой психики, своими глупыми эмоциями постоянно мешающей неминуемому прогрессу человечества.
Коммунизм одержал победу над нацизмом, а либерализм — над коммунизмом. Но во время каждого пожирания одного урода другим какая-то частица ДНК предыдущего переходила в следующего. Собственно, приблизительно так считают противники ГМО. Соответственно, в действиях каждой «либеральной демократии» (включая нашу собственную) мы видим и выразительные тени предшественников.
Финал «Игры в кальмара» так же выразительно пародийный. Нам предлагают предположить, что уцелевший герой (в условиях тотального контроля над каждым его шагом, не говоря о деньгах) может превратиться в графа Монте-Кристо, сказочно богатого мстителя во имя справедливости.
Хотя единственное, что он реально может, — это покрасить волосы в цвет одежды своих тюремщиков. Современный бунт — во всей его красе — он такой, как борщ. Сколько бы ни было гастрономического разнообразия, а цвет все равно получается свекольный.
Больше статей Олега Покальчука читайте по ссылке.









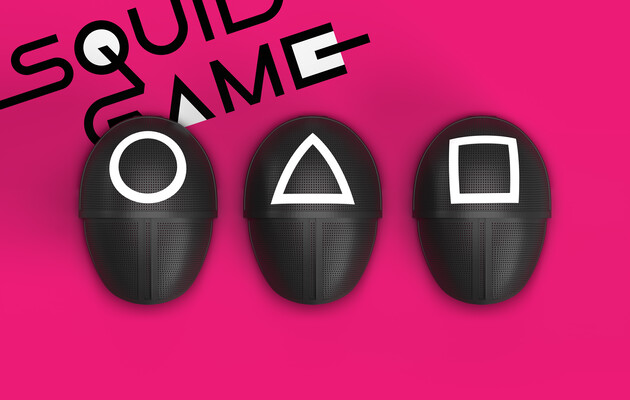











 Войти с помощью Google
Войти с помощью Google