Судьба Агатангела Ефимовича Крымского — одного их основателей Украинской Академии наук, выдающегося филолога и востоковеда — стала частью истории самой Академии, всей украинской науки. Его жизнь не просто отразила эпоху, она выдержала испытание эпохой, хотя и была ею сломлена. А последние дни ученого стали одной из тех мрачных загадок ХХ столетия, которые только в последние годы, благодаря рассекречиванию архивов, начали открываться во всем своем драматизме.
Война
С той минуты, когда Крымский услышал слово «война», все сместилось. Мгновенно отступили на задний план события, еще вчера так волновавшие его. Самым важным стало то, что он, больной, старый человек, страдающий от очередного обострения болезни, оказался так далеко от дома — в Ялте. С ним тринадцатилетний приемный сын Микольця. А вокруг — мечущиеся люди, всеобщий страх. И его собственный страх. Страх смерти. Не только и не столько своей...
Он часто думал о смерти. Но раньше эта мысль была спокойной, словно убаюканной тем философским смирением, с которым он вот уже много лет пытается воспринимать все, что с ним происходит. Привыкнув исступленно отдаваться работе, он почти верил, что смерть, так часто напоминавшая ему о себе жестокими сердечными приступами, астматическим удушьем, настигнет его в разгар напряженной работы, избавив от мучительного инвалидского ничегонеделанья.
Теперь же мысль о смерти терзала. Это была даже не мысль, а ощущение реальной близости совсем новой опасности. Не той, к которой он привык прислушиваться в себе. Сейчас главная опасность была вне его. И угрожала она не только ему.
И хотя мучительная дорога домой уже позади, хотя они уже наконец в Звенигородке, страх не покидает его. Жизнь снова сделала крутой поворот, слишком крутой.
Здесь, в тихой Звенигородке на Черкащине, над Гнилым Тикичем, в доме, построенном отцом ровно семьдесят лет назад, сразу же после рождения сына, Агатангел Крымский всегда находил успокоение. Здесь он умел настраиваться на мысли о бренности сиюминутного и нетленности вечного. У него всегда была нить, связывающая его с вечным, — его работа.
Но сейчас покой не приходил. Мучила оторванность от Академии. И хотя рядом были самые близкие — брат Сима, Микольця, которого давно уже привык считать своим сыном, Микольцина мать Шура, — он рвался в Киев. К тому же там, в его киевской квартире, осталась сестра Маша — Мария Ефимовна. И тот страх смерти, который он испытывал, имел прямое отношение к ней, ко всей семье и ... к Академии наук. Ставшая главным делом и главной заботой его жизни, она, Академия, ведь тоже могла погибнуть.
А фронт все приближался. Начинался жаркий июль сорок первого. Говорили, что Киев готовится в эвакуации. Что же будет с Академией?
Черная «эмка» в Звенигородке
Каждый день он шлет письма и телеграммы — в Академию и сестре. Каждый день невысокий старик в поношенной одежде, держась за руку мальчика, идет на почту. Он почти слеп, и на нем две пары очков, надетых одни на другие и связанных вместе. Со дня приезда в Звенигородку этот поход стал почти ритуалом.
20 июля они, как всегда, собирались на почту. Микольця уже стоял на крыльце, когда подъехала черная «эмка», из которой вышли двое военных. Они прошли в дом, что-то сказали отцу и поднялись с ним на второй этаж. Микольця прождал отца более получаса. Наконец тот вышел в сопровождении военных. Микольця услышал, как он сказал, обращаясь к матери:
— Шура, меня вызывают в Киев, я оттуда дам о себе знать. Берегите Микольцю, позаботьтесь о Симе...
И передал ей записку. Потом подошел к нему, привлек к себе, поцеловал и пошел к машине.
Мать развернула записку и прочитала вслух: «Срочно вызван в Киев, поручаю свой дом и моего сына Николая его матери, Александре Семеновне Каштановой».
Оставшаяся в Звенигородке семья надеялась, что Агатангел Ефимович эвакуировался вместе с Академией. Но после освобождения Киева оказалось, что о судьбе его никому не известно. Черная «эмка», увезшая одного из крупнейших деятелей украинской науки, непременного секретаря Академии наук УССР, академика Агатангела Ефимовича Крымского, словно растворилась в небытии.
Однако его искали. Академик В.Вернадский, узнав, что Крымский не был эвакуирован, обращался в разные инстанции. Ему отвечали: «Академик Крымский, очевидно, на Кавказе», а, возможно, «остался в Киеве», «никаких сведений о его судьбе нет».
Закончилась война, однако по-прежнему выяснить ничего не удавалось. В 1947 году Мария Ефимовна на свой очередной запрос в президиум Академии наук о судьбе брата получила не очень вразумительный ответ, написанный заведующей архивом: «Действительно, Крымский А.Е. был вывезен после эвакуации, но куда, неизвестно, а также его пребывание в годы войны и смерть Академии наук тоже неизвестны и никаких материалов о нем с 1941 года в архиве не имеется».
Казалось, ответа не знал никто. Но ответ был — в «Деле академика Крымского», хранившемся в архивах КГБ. «Дело» это стало доступным лишь спустя полвека после исчезновения ученого. И пусть оно не столько прояснило ситуацию, сколько выявило ее чудовищную абсурдность, подтвердилось то, о чем многие давно догадывались: с Крымским просто расправились.
В опале
В тот день Крымский поднимался на свой пятый этаж особенно долго. Сколько лет живет он в этом старом доме на крутой киевской улице со старинным названием Малоподвальная. Но никогда еще эти лестничные пролеты не казались ему такими крутыми и длинными. Не хватало дыхания, остро болело в груди. Он останавливался, отдыхал — и снова вверх.
Добравшись наконец до квартиры, прошел в меньшую из двух комнат, опустился на оттаманку, на которой обычно спал, и закрыл глаза. «Я никто», — произнес вслух без какой-либо интонации. И тут же открыл глаза. Звук собственного голоса словно вернул его к реальности. Взгляд за стеклами очков стал напряженно сосредоточенным.
Что происходит в самом деле? Как случилось, что он, прежде всегда уверенный в своих силах, в важности того дела, которое в жизни выбрал для себя, стал беспомощным и зависимым? Зависимым от людей бесталанных, малозначительных. Но у них власть, политическая линия, идеологические установки, курс партии. Господи, как давно эти категории стали определяющими в жизни Академии, да и в его собственной!
А ведь в восемнадцатом, когда Владимир Иванович Вернадский, ставший первым президентом Украинской Академии наук, предложил его, Крымского, избрать непременным секретарем и академики единодушно проголосовали, казалось, что в дальнейшем все будет зависеть только от ума, таланта, работоспособности, самоотверженности тех, кто взялся созидать Академию. Да и после, когда в Киеве постоянно менялась власть, когда, голодая и замерзая, приходилось бороться по сути за физическое существование их детища и за собственное выживание, — даже тогда все было проще и логичней. Грохотала гражданская война, которая диктовала свои законы, они были жестокими, но понятными.
Когда же нависла эта, совсем иная, совершенно новая опасность? Крымский отчетливо почувствовал ее уже в начале двадцатых. Ее воплощало в себе всеобъемлющее слово «контра». Оно все чаще звучало в адрес коллег-ученых. Люди умственного труда не вызывали доверия у советской власти. Сотрудников Академии довольно часто арестовывали, порой без каких-либо оснований, и их надо было защищать. И как-то так выходило, что связанные с этим заботы, как, впрочем, и многие другие, Крымскому приходилось брать на себя.
После того, как в двадцатом году Вернадский уехал из Киева, у Академии так и не появился президент, который бы смог и захотел жить ее жизнью. Избранный общим собранием академиков Николай Прокофьевич Василенко — крупный юрист, независимая, яркая личность, единомышленник Вернадского — фактически успел сделать лишь первые шаги в роли второго президента УАН. Правительство так и не утвердило его. А сменивший его известный ботаник Владимир Иванович Липский, право же, не имел ни дара, ни стремления стать истинным руководителем. Вот и легло бремя каждодневных забот на его, Крымского, плечи. Не случайно же в Киеве Академию наук с легкой руки какого-то шутника стали называть «крымской».
А кроме того — руководство академической кафедрой филологии, Институтом украинского научного языка, несколькими украиноведческими и востоковедческими комиссиями. Не оставлял он и своих исследований по восточной истории и филологии. Работать приходилось по 18 часов в сутки. И все меньше оставалось времени для литературного творчества, которое прежде занимало так много места в его жизни.
Но от всех этих организационных и творческих дел постоянно отвлекала неотложная текучка, связанная зачастую с судьбами людей. Особенно тревожно было, когда кого-то арестовывали. Приходилось спешно собирать сотрудников, чтобы принять решение о ходатайстве перед правительством, предпринимать все допустимые неформальные меры. На первых порах они, к счастью, давали результаты. Удалось добиться освобождения Стебницкого, Корчака-Чепурковского...
А сколько волнений и тревог пришлось пережить, когда ГПУ «взяло» Василенко. Его обвиняли к принадлежности к белогвардейской организации «Киевский центр действия» — ни больше ни меньше. И все-таки Академия сумела защитить своего недавнего президента. Крымскому это стоило огромных сил и нервов.
Еще труднее было бороться за освобождение Ефремова. Этот выдающийся ученый, основоположник украинского литературоведения, вице-президент и председатель управы Академии был очень близок Крымскому по научным интересам, взглядам на пути развития науки. Когда его арестовали, Крымский сделал все возможное — и, казалось, невозможное — для его освобождения. Вот когда понадобилась вся его гибкость и непревзойденная изобретательность!
Но противостоять обстоятельствам становилось все труднее. В 1924 году государство сделало первую прямую попытку покончить с той независимостью, которой так дорожила Академия, поручив Наркомпросу подготовить проект ее реорганизации. Академию подвергли критике за недостаточную революционность, оторванность от проблем политического развития, предложили изменить персональный состав руководящих структур.
Вряд ли кто знает, к каким ухищрениям пришлось прибегнуть Крымскому, чтобы все-таки сохранить академическую структуру и принцип избрания академиков за научные, а не политические заслуги. Потом состоялось переизбрание президиума. Но какой это был спектакль! И снова не кому-либо другому, а Крымскому пришлось быть и режиссером, и главным исполнителем...
Но Крымский хорошо знал, что далеко не все, понимая его линию поведения, принимали ее. До него доходили отзвуки высказываний Василенко, который, признавая, что Академия спасена благодаря усилиям Крымского, тем не менее уточнял: благодаря его «ловкости», «восточной практической хитрости» — и что-то еще в том же духе и даже жестче. Удручало прежде всего то, что это были оценки человека, мнением которого он дорожил.
А тут еще непримиримые столкновения с Грушевским и его сторонниками. На фоне общей тенденции к идеологизации всей жизни эти конфликты внутри Академии все больше приобретали опасный политический оттенок. Доносы становились почти нормой.
Конечно же, власти воспользовались ситуацией, чтобы прибрать к рукам Академию. В 1928 году комиссия Наркомпроса проверила работу Академии, и «выводы» походили скорее на политический приговор, нежели на деловой анализ. В частности утверждалось, что некоторые ученые в той или иной мере были связаны с антисоветской деятельностью и частично продолжают ее.
Были в «выводах» и позиции, касавшиеся непосредственно работы непременного секретаря. Среди прочего в вину ему вменялось то, что общее собрание под его руководством порой обсуждает политические вопросы, не всегда носящие советский характер, — вот когда аукнулись ему ходатайства о коллегах, обвиняемых в контрреволюционной деятельности.
И вот под присмотром Наркомпроса состоялось переизбрание президиума. Правда, произошел конфуз: кандидатура на пост непременного секретаря, «спущенная» сверху, не прошла. Голоса получил снова-таки Крымский. Но это уже не имело значения — его в этой должности не утвердили.
...И теперь, в тишине квартиры, он снова и снова возвращается мысленно к событиям последних дней и пытается осознать: что же произошло. Его фактически вышвырнули из Академии. Правда, он еще числится председателем историко-филологического отдела, руководителем нескольких комиссий, но совершенно ясно, что это не надолго. У него уже есть некоторый опыт общения с системой: она подобные акции доводит до конца.
Итак, он в опале. А впереди — неизвестность. Его терзают предчувствия.
Сыновья
Предчувствия не обманули: вскоре начались аресты. Ефремова объявили руководителем контрреволюционной организации «Союз освобождения Украины». Кроме него, арестовали еще нескольких близких сотрудников Крымского. В научных кабинетах шли обыски. А летом 1929 года «взяли» и Николая Левченко — названного сына Крымского.
Левченко был одной из самых глубоких его привязанностей. Еще в 1921 году непременный секретарь обратил внимание на 18-летнего юношу, работавшего в отделе снабжения, и потянулся к нему. Жадный к знаниям, одаренный и энергичный Левченко охотно брался за поручения, требующие творческого подхода, изобретательности, интуиции. Крымский все больше приближал его к себе и в конце концов усыновил. Так у него появилась семья. Николай окончил институт народного просвещения, затем археологический институт. К 1928 году он был уже членом нескольких академических комиссий, имел печатные работы.
Его арест стал для Крымского самым страшным ударом. Николай был сослан на Соловки.
В Киеве у Левченко остался сын. Крымский и его усыновил. Так в его жизни появился Микольця.
А «чистки» продолжались. Крымского уволили со всех должностей. «Сплошь да рядом бывают дни, когда мне совсем нечего есть, — писал он Вернадскому. — Сплошная нищета. Я бы назвал свою жизнь унизительной. Не на что починить ботинки...»
И еще одна жалоба есть в письмах Вернадскому: «Работается мне плохо». Но при этом из-под его пера один за другим выходят научные труды — «Студии в Крыму», «Тюрки, их языки и литературы», «Страницы из жизни кавказского Азербайджана»...
На последнем витке
Новый крутой поворот в судьбе ученого происходит в конце 30-х годов — Академия вспоминает о Крымском. Ему поручают руководить аспирантами и платят 600 рублей.
После присоединения Западной Украины Крымского постоянно посылают во Львов. Он, корифей украинской советской науки, как бы призван служить живым доказательством ее высокого уровня. В 1940 году его награждают орденом Красного Знамени, присваивают звание заслуженного деятеля науки УССР. 15 января 1941 года с большой помпой отмечается 70-летие академика Крымского. Принимается решение об издании избранных трудов юбиляра.
Но триумф ли это? Маховик вращается со все большей скоростью. До 20 июля, когда черная машина навсегда увезет его из Звенигородки, остается полгода...
...Тайный арест сделал дальнейшую судьбу Крымского мрачной загадкой, остававшейся неразгаданной целых полвека. А когда наконец стало доступным его «дело», выяснились не столько факты, сколько домыслы, на которые опиралось следствие. Ученого обвиняли в том, что он был идеологом украинского буржуазного национализма (а давно ли его упрекали в руссификаторстве и великодержавничестве?!) и возглавлял подпольную организацию. А еще в том, что он «демонстративно носил рваные сапоги и порванный костюм».
Смехотворность обвинений не сделала их менее опасными. Ученому приписывалась борьба с советской властью всеми доступными ему способами.
Его отправили в Кустанай, где он и умер 25 января 1942 года.
До последнего времени никаких более полных сведений никто не имел.
...И вот совсем недавно в Киев, в Академию наук, пришло письмо из поселка Строитель Белгородской области. Его автор, Иван Ефимович Гречихин, сообщает, что в суровую зиму сорок первого года находился в больничной камере кустанайской тюрьмы вместе с академиком Агатангелом Ефимовичем Крымским.
Так появилась надежда хоть что-то узнать о судьбе ученого после ареста и суда. Спустя некоторое время в гостях у И.Гречихина уже была историк из Киева Э.Цыганкова, и старый крестьянин рассказывал ей о своих мытарствах, о том, как он, «кулак и баптист», брошенный в 1940 году в харьковскую тюрьму, был через год в числе 23 тысяч узников вывезен в Казахстан.
...В кустанайской тюрьме Гречихин, добравшись наконец до нар в полутемной камере, буквально свалился на них. Когда очнулся, увидел рядом старого человека, который внимательно смотрел на него сквозь два ряда стекол связанных вместе очков.
Сосед заговорил. Голос у него был тихий и мягкий. Он задавал обычные вопросы: за что арестовали, откуда родом? Но в его интонациях было столько участия, что Гречихин сразу проникся к нему доверием. Он начал рассказывать этому незнакомому человеку обо всем, что довелось пережить и передумать, о том, как важна в его жизни вера, насколько кощунственным было для него требование следователей отречься от Бога. Собеседник слушал его очень внимательно.
— Значит, вы христианин, — задумчиво произнес он.
А потом, после паузы, как-то неуверенно, словно делая вывод, неожиданный для самого себя, сказал:
— Пожалуй, и я в некотором роде христианин.
— А как вас зовут?
— Агатангел Ефимович Крымский.
— А за что вас арестовали.
Снова пауза. Крымский как бы подыскивал наиболее простой ответ, способный в то же время выразить нечто трудновыразимое. Наконец промолвил:
— За большую связь с миром.
С того для между ними часто завязывались беседы — о жизни, о вечности, о душе, о предназначении человека. Они говорили о высоком в холодной зловонной камере, где люди лежали, почти касаясь друг друга, — не только на нарах, но и на полу, где страдание и унижение убивали во многих все человеческое.
Крымский постоянно стремился общаться и с другими сокамерниками. Много рассказывал, умело разъяснял собеседникам то, что им казалось непонятным. Он был спокоен и светел — ни приступов отчаяния и тоски, ни подавленности, как у многих. Достоинство и мужество стали его последним аргументом в противостоянии безумию той жизни, из которой он уже уходил.
Он слабел на глазах и вскоре не смог подниматься. Когда его выносили в камеру для умирающих, Гречихин подошел к носилкам. Крымский поднял руки и сказал:
— Прощай, брат. Может, и встретимся там, на небесах.
А еще попросил при возможности сообщить о нем в Киев.
— Мой адрес простой: Киев, Академия наук. И все.
Через два дня Крымский умер.
Хоронили его, как и всех. Умерших раздевали и складывали в два ряда высотой до двух метров каждый. Длинный, метров тридцать, ряд замерзших трупов, лежал до теплых дней. Потом рыли общую могилу, вывезли трупы на лошадях и закопали. Никаких опознавательных отметок на захоронении, конечно же, не было...
...Похоже, что эта, последняя, информация практически снимет с повестки дня проблему поиска могилы А.Крымского. Лишь символически можно ставить надгробия и обелиски ему и тем, кто похоронен вместе с ним. Но скорее всего, это тот случай, когда надо бы зажечь вечный огонь.

















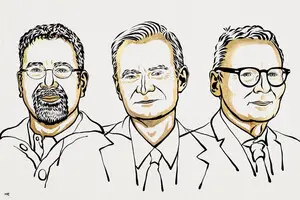
 Войти с помощью Google
Войти с помощью Google