Ушел Ступка. Пришла пустота. Так бывает, когда небо взрывает гроза, затем проносится молния. А потом - ливень.
Чисто-чисто. Пусто-пусто. Как у Семена Кирсанова: «На душе, как в синем небе, после ливня - чистота».
…В этом случае разные слова, которые для данного скорбного повода выстраиваются в предложения, кажутся избитыми. Великий, гениальный, любимый, всенародный, незаменимый. «Интеллектуальный арлекин», «истинный курбасовец», «хранитель традиций».
Но все так и было. И все эти слова являются верными, искренними.
Как искренним был и его «театральный роман». С каждым из вас… Со всеми вместе. И с каждым в отдельности.
Этот «роман», написанный его жизнью, изобилует страницами яркими и выдающимися, лирическими и юмористическими. Считай, от первых его шагов в «искусстве», когда еще ребенком играл «серого волка» на новогоднем утреннике и всерьез поверил, что напугал взрослых грозным детским рычанием (такова уже тогда была сила его перевоплощения!)… До шагов последних. Когда не слушались ноги, болело сердце, разрывалась душа. А разум - его острый разум - кипел идеями, мечтами...
Конечно, мечтал играть. До последнего вздоха.
Даже когда в Феофании ездил больничными коридорами в колясочке, то в шутку «постреливал» в прохожих костылем, будто бы герой боевика, а потом со смехом в дрогнувшем голосе рассказывал по телефону: «Я поки лікуюсь, стільки гидоти передивився на відео, що навіть готовий все це зіграти, аби отримати… «Оскара»!»
Действительно, листая его «роман», найдешь разнообразные эпизоды, лица, судьбы. Будут , например, профили гетманов и физиономии отдельных генсеков. Хмельницкий, Мазепа, Брежнев etc. Кажется, он их всех «обаял». Собрал в одну компанию своей легкой артистичной рукой - и повел «за!» зрителя.
Он отлично знал цену себе. И потому каждая его роль дорогого стоит. От малоизвестного Керенского в картине С.Бондарчука до всем известного Бульбы в блокбастере В.Бортко. От советского Виктора в раннем львовском спектакле «В дорозі» по пьесе В.Розова до «импортного» Фрейда в киевском спектакле «Истерия» режиссера Г.Гладия. И ведь много таких. Когда улетели в мир иной орлы и соколы советского кино (Кирилл Лавров, Михаил Ульянов, Олег Ефремов), его фактура обаятельного мудреца и сильного мужчины вроде замещала те невосполнимые потери. И в кинематографической России возник бум вокруг Ступки. И в европейских странах его имя стало синонимом нашей культуры.
В сущности, он прожил достойнейшую жизнь. В которой очень многое осуществилось. Хотя и не все…
Года два назад загорелся играть Фирса. Мол, отличная роль «почти без слов».
Казалось, звезды начали улыбаться. Московский режиссер В.Дубровицкий запустил антрепризный проект «Вишневый сад» - и, о чудо - позвал на Фирса именно его.
Артист стал не просто «учить» роль, он стал сочинять персонажу судьбу, а спектаклю - главного - героя.
Увы, возникла пауза. Больницы, тревоги и все остальное. Фирса в том (кстати, неудачном) спектакле сыграл С.Любшин. Но однажды, когда нужно было передать ему какую-то пьесу (кажется, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда), к счастью, увидел эту его ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ…
Кабинет Ступки, театралы об этом знают, состоит как бы из двух «отсеков». Пространство официальное. И пространство личное, в виде вагончика-купе, со столиком между сидениями.
Вот так вот осенним вечером, сидя напротив, он и играл своего Фирса только лишь двум зрителям (второй - его верный знаменосец по литературной части).
…Длилось это минут пятнадцать. Не больше. Фирс сидел на расстоянии вытянутой руки. И не было сомнений - да, это он, старый лакей из пьесы Чехова. Которому 87 или чуть меньше. Ступка, очевидно, придумал несколько вариантов одного образа. Но в тот раз проиграл историю какого-то совершенно счастливого человека. Его Фирс торжественно «встречал» Раневскую вместе со своим стареньким патефоном. Звучала музыка из их прошлой замечательной жизни. Он напевал, подмигивал. Его глаза вспыхивали искрами молодости и задора. Будто бы сознательно «впав в детство», он передразнивал Гаева и подтрунивал над Любовью Андреевной. Мурлыкал вокруг каждого, как кот, который гуляет сам по себе.
Ступкин Фирс был не лакеем, а господином. «Барыня МОЯ приехала! Дождался!», - он говорил важно, иронично, чинно, выделяя «моя». Гаеву твердил: «Опять не те брючки надели. И что мне с вами делать!» - как строгий воспитатель не в «вишневом», а в детском «саду». «Недотепы» - это они, а он - та еще штучка.
Финал пьесы обыграл изумительно, совершенно неожиданно. Сломался патефон. Надломилась жизнь. Все уехали. «Человека забыли». И тут-таки и наступал наивысший момент его личного счастья. Он оставался один. Наедине с домом и садом. Больше ничего не надо. Потому что все ему так надоели… И взгляд его был торжествующим. А последние реплики произносил с какой-то элегичной ухмылкой: «Жизнь-то прошла, словно и не жил… Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, НИЧЕГО…»
На моих глазах он писал новый «роман» на основе великой пьесы. Ласкал сломавшийся патефон. Кряхтя, укрывался старой книжкой, будто бы одеялом. И, свернувшись калачиком, тихо-тихо засыпал. Навсегда.
Спектакль был окончен. Слезы надолго застряли в глазах. И тогда говорил и сейчас ему повторяю… «Дорогой мой человек… Спасибо тебе. Все, что было, прекрасно. Все, что было, божественно».
Короткие титры
Богдан Ступка. Родился 27 августа 1941-го на Львовщине. Умер 22 июля 2012-го в Киеве. Последние одиннадцать лет возглавлял Национальный театр имени Ивана Франко. Среди сценических свершений актера его роли в спектаклях: «Вкрадене щастя», «Король Лір», «Тев’є-Тевель», «Енеїда», «Ричард III», «Істерія», «Цар Едіп». Всенародную популярность принесли актеру и работы в кино: «Белая птица с черной отметиной», «Тарас Бульба», «Свои», «Водитель для Веры».










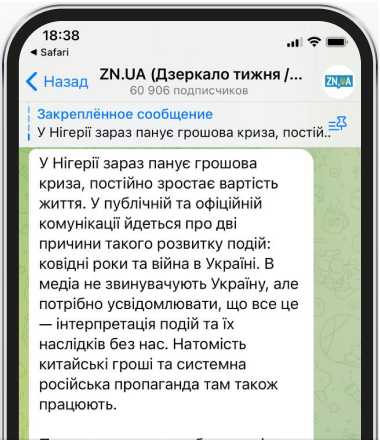







 Войти с помощью Google
Войти с помощью Google