«Мы не успели, не успели, не успели оглянутся… А сыновья, а сыновья уходят в бой…» — хрипел Высоцкий из кассетного магнитофона в моем детстве. Война казалась чем-то романтичным и героическим. В детском воображении она полностью состояла из каких-то мужественных людей с ясными глазами, которые в полный рост шли в атаку и побеждали врага. Как оно происходило на самом деле, узнать было невозможно. Потому что мой дедушка никогда не рассказывал о войне. Никогда. Как он, сын репрессированного священника, прошел ее, я даже не представляю.
Возможно, сейчас он рассказал бы. Как равный равному. Мы сидели бы с ним на кухне и рассказывали друг другу о минных полях и артобстрелах. О том, что никакого героизма на самом деле нет. Есть непреодолимая жажда выжить и помочь выжить тому, кто рядом. Есть люди. Живые обычные люди в сверхчеловеческих условиях, которым приходится делать неординарные вещи, чтобы не стать мертвыми. И что нет в войне никакой романтики. Есть холодные окопы и блиндажи с водой по колено. Абсолютно одинаковые — что тогда, что сейчас. И одинаково слепые пули и снаряды, которым все равно, насколько ты ценен для этого мира.
Но хорошо, что он не знает о том, что его внучка имеет военный билет, ранение и боевые награды. Меньше всего он хотел бы об этом знать. Именно поэтому на каждый праздник он поднимал первую рюмку за мирное небо над головой. Мирное небо, которого теперь не знают наши дети. И которое неизвестно когда снова увидим мы.
Меньше всего после Победы я хочу сидеть на кухне со своими детьми и рассказывать им о павших побратимах и НП в раздолбанных посадках. О многочисленных днях рождения ⸺ втором, третьем, сто пятидесятом… На равных. Если всем повезет до этой Победы дожить. Но, кажется, мечтать об этом слишком поздно.
…Моя средняя дочь живет на улице Романа Ратушного. Когда он появился на свет, у меня уже был старший ребенок. Мы с его отцом пили на работе какое-то сомнительное пойло за рождение Ромы и много смеялись в тот день. Голодные веселые девяностые. Голодные веселые мы. Жизнь наших детей обещала быть неординарной. Но мы и понятия не имели, насколько.
На похороны Ромы меня отпустили из части, хотя отпусков тогда никому не давали. Всего на несколько часов под ответственность командира. Я не успела даже увидеть своих детей, потому что надо было возвращаться. Тогда я впервые ощутила полнейшую беспомощность. Потому что наши дети уже здесь. Рядом с нами в строю. И это сводит с ума.
«Боже, кто вообще отпустил его на войну? Он же совсем еще ребенок», — пишет какая-то незнакомая мне женщина под фото Богдана Будчика. Ему навсегда 21 год. Он подписал контракт с Нацгвардией, успел повоевать, получить ранение и снова встать в строй, прежде чем навсегда вернуться домой с Луганщины.
«Надо привлечь к ответственности тех, кто подписал с ним контракт!!!» — именно так, с кучей восклицательный знаков пишет какой-то мужчина моего возраста. Судя по профилю, пишет из-за рубежа. Понятия не имею, возможно, у него неизлечимая болезнь или ребенок-инвалид, или старенькая мать. Но от этого коммента, как и от других о «бедных детях», хочется кричать вслух. Потому что эти «дети» взрослее нас. Они взяли на себя ответственность, которую не должны были брать. Они — воины. Поэтому те, кто не рядом с ними, не имеют права говорить ничего, кроме слов «простите нас».
…На прощании с Ирой Цыбух — невероятное количество молодых лиц. Вышитые сорочки и форма. «Намалюй мені ніч» и «Лєнта за лєнтою». Несколько часов в очереди, чтобы притронуться к закрытому гробу, обернутому в знамя. Чувство непоправимой утраты. На уровне общества.
…Когда она родилась, я ждала второго ребенка. Когда она делала первые шаги, я снимала кино. Когда она пошла на войну, у меня уже были внуки. Но она за свою жизнь успела заложить в наше будущее такие важные смыслы, что я и до ста лет за ней не успею. Она и ее поколение должны были служить основой для новой Украины. Ее сердцем и ритмом. Ее не должно было быть в том гробу посреди города, который узнал о ее существовании лишь после ее гибели.
…На одном из фото рядом с Ирой Пашка. Мы с его мамой знакомы сорок лет. Я помню его родителей юными и влюбленными. И помню, как он родился. Он ходил в музыкальную школу вместе с моей дочерью, и я одинаково сильно аплодировала им обоим на первых смешных концертах. Я смотрю на его фото и стараюсь понять, как это случилось, что он защищает меня. Как мы, взрослые, вообще все это допустили? Мы, которые еще не так давно обещали им, что никакой бабайка не вылезет из шкафа, пока мы будем рядом? Что можно не бояться темноты, потому что мы крепко держим их за руку.
…На детской площадке полно детей. Кто-то старается съехать с горки, кто-то ковыряется в песке, кто-то лезет на ступеньки.
На скамье рядом со мной сидит старший брат одного из малышей, которого я тоже знаю с рождения, и старается сдержать слезы.
⸺ Эй, ты чего? Что-то случилось?
⸺ Я так люблю детей. Я так хочу иметь своих… И семью свою. Но у меня их не будет.
⸺ Почему ты решил, что не будет?
Он поднимает на меня абсолютно взрослые глаза и говорит:
⸺ Потому что война. Я решил идти на контракт, когда мне будет 18. Разве можно иначе?
Мне нечего ему ответить. И пока я молчу, он позволяет себе заплакать по-настоящему. Не от страха перед войной. От тоски по своей жизни, которую он не успеет прожить так, как хотел. Потому что нас, старших, недостаточно там, где он планирует оказаться через несколько лет.
Наверное, впервые за всю мою взрослую жизнь в День защиты детей я чувствовала такую беспомощность. Потому что в этот день тысячи тех, кто мог бы по возрасту быть моим ребенком, копали блиндажи, поднимали дроны, тянули раненных на эвак, волокли снаряды на позицию, гнали корчи по бездорожью, прыгали в окопы, кричали в радейку «дайте поддержку». Взрослые дети. С которыми после Победы мы будем сидеть на кухне и говорить о войне, которая не должна больше повториться. На равных. Если всем повезет до этой Победы дожить. И если нам не будет стыдно смотреть им в глаза.



















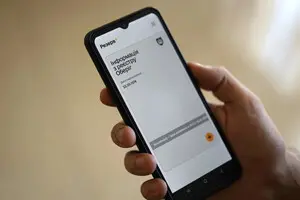




 Войти с помощью Google
Войти с помощью Google