О Ельцине, наверное, лучше спрашивать людей, которые его пылко любят или так же пылко ненавидят, грабили при нем или при нем же страдали (количество первых всегда преуменьшается, вторых, как ни странно, преувеличивается). Со мной говорить о нем, наверное, неинтересно — я не очень-то верю в роль личности в истории, в президентский пул не входил, бюджетов не пилил, сырья не делил... Но вообще, по-моему, только такой неинтересный разговор и имеет смысл. Потому что он позволяет понять, что в ельцинской эпохе было собственно от Ельцина.
Я давно уже обнародовал свои наблюдения над российским четырехтактным историческим циклом, в котором каждые сто лет повторяются одни и те же времена года: революция — заморозок — оттепель — застой. Революция всегда сопровождается бунтом военных, заморозок — внешними конфронтациями, внутренними репрессиями и ужесточением вертикали, оттепель — расцветом искусств, застой — военными и геополитическими катастрофами. Ельцину выпало осуществлять революцию, осторожно и половинчато начатую Горбачевым. Все великие упрощения, сокращения территории, интеллектуальная и социальная катастрофы сопутствуют революциям неизбежно, и обвинять в них Ельцина так же наивно, как возлагать вину в Октябрьской революции на Ленина. Ничего бы Ленин со своей миниатюрной партией не сделал, даже будучи идеальным организатором (а он им вдобавок не был). Думаю, Ленин оттого и сошел с ума, что увидел подтверждение своих худших опасений: не человек распоряжается историей, а история — человеком. Тот факт, что Ельцин возглавил российскую революцию, оказался в достаточной степени случаен: по природе своей он был вовсе не антикоммунистом, оставался классическим руководителем среднего звена (в этом смысле руководство областью, думаю, было его потолком), и, не случись перестройки, он имел бы все шансы так никогда и не познакомиться с академиком Сахаровым, а равно и с его трудами. В области о нем вспоминали хорошо: в полуголодное застойное время в магазинах по крайней мере были крупы и молоко, не говоря уже о постном масле.
Что же привнес Ельцин в русскую историю? Что не могло бы совершиться без него? Думаю, его главной исторической заслугой можно назвать то самое ускорение, которого тщетно добивался Горбачев. У Ельцина-политика была одна нехитрая, но сильная тактика: он давал врагу пышно расцвести, усыплял его бдительность кажущейся слабостью власти или собственной индифферентностью, — а потом, когда нарыв созревал, шарахал со всей мочи. Он бы, конечно, и раньше шарахнул со всей мочи — потому что умел распознавать опасные явления в зародыше, — но тогда эта мочь не была бы, так сказать, легитимизирована. Вот когда дело доходит до уличных противостояний — тогда и танки можно оправдать. Собственно, в этом — на фоне Горбачева — и заключалась ельцинская привлекательность: он решал все проблемы кувалдой. Это вполне соответствовало духу времени, и именно благодаря этой ельцинской способности ускорять историю страна проделала за девять лет весь путь, на который у Римской империи ушло три века, а у царской России — два десятилетия.
Весь 1993 год Ельцин ждал, пока Руцкой и Хасбулатов доведут ситуацию сначала до двоевластия, а потом до уличных боев. После этого он расстрелял Белый дом из танков. Не люблю, когда говорят «расстрелял парламент», потому что почти весь парламент оттуда к тому времени благополучно ушел. Расстреливали именно здание, и Ельцину справедливо представлялось, что без демонстративного расстрела парламента безбашенная оппозиция не сдастся. Танки оказались эффективны — телекартинка сутки держалась на экранах всего мира. Особенно свински тогда повели себя либеральные интеллигенты, не желавшие поддерживать Ельцина, даром что эти танки защищали именно их. В том числе, кстати, и меня. И я-то как раз, отважно жертвуя репутацией, горячо одобрял ельцинскую решимость, потому что в противном случае жертв было бы больше в разы. Больше же всего мне запомнился Руцкой, призывавший иностранных послов срочно съезжаться в Белый дом, чтобы обеспечить ему, боевому генералу, дипломатическое прикрытие.
Весь 1994 год Ельцин ждал, пока Джохар Дудаев окончательно решится — может быть, против собственной воли — возглавить независимую Ичкерию и увести ее из-под российской эгиды в сторону шариата. Тут, пожалуй, Борис Николаевич либо недооценил Кавказ, либо переоценил танки, потому что в Грозном они оказались в ловушке. Это была единственная ошибка, в которой президент публично каялся. В России же его тактика срабатывала образцово — и в очередной раз сработала в 1996 году, когда Ельцин долго ждал, пока назреет Коржаков. Коржаков назрел и оглушительно лопнул — все спрашивали, почему Ельцин терпит, но Ельцин терпел не просто так. Он убрал Коржакова в тот момент, когда тот уже без пяти минут отменил Конституцию и выборы. Этого у него не вышло — из власти одновременно вылетели и главный охранник, и главный чекист Барсуков, и их духовный отец вице-премьер Сосковец, как срифмовал тогда Анатолий Чубайс.
Следующее ожидание Ельцина — 1999 год, когда к власти вовсю тянулись откровенные, не скрывающие своей тоталитарности персонажи во главе с Юрием Лужковым и Евгением Примаковым. Целый год он выжидал, пока Лужков, автобусами свозя москвичей на митинги, открыто грозил «Семье» у стен Кремля — и беззастенчиво раскармливал собственную семью, забывшую уже о всяких приличиях. Все тогда спрашивали: ну что же Борис-то, чего ждет? Он ждал окончательного и бесповоротного обнагления; ждал, чтобы все увидели — кто, собственно, готовится ему на смену. И когда Евгений Примаков, вовсе уже разгулявшись, отказался приезжать к нему на прием, отправив вместо себя открытое письмо, — Ельцин начал открыто и мощно мочить «Отечество», которое сдулось за два жалких месяца. Для этого хватило бы одного Сергея Доренко. Что говорить, игра шла без правил. Но ведь правил не придерживались и ельцинские противники — все — в диапазоне от Лужкова до Примакова, от Макашова до Руцкого, от Дудаева до Басаева.
И во всех этих четырех противостояниях — включая сражение с чеченской независимостью, со средневековым шариатом, провозгласившим себя свободой и прогрессом, — я был на ельцинской стороне, потому что противостояли ему силы куда более страшные и циничные, чем он сам. Конечно, для репутации такая солидарность была губительна — чтобы тебя любили интеллигенты, надо было провозглашать чуму на оба дома. Но тогда оба дома еще не уравнялись. Это сейчас нельзя выбрать между согласными и несогласными, «Нашими» и Каспаровым, НАТО и ОМОНом. Тогда выбор был, как и всегда бывает во время революций. Смыслы девальвируются уже потом, во время заморозков.
Что касается челяди, разворовавшей страну, олигархов, приватизировавших прессу, рабочих, выгнанных с обанкроченных предприятий, — так ведь заслуга Ельцина тут невелика. Это происходило бы при любой другой власти, да еще и растянулось бы на десятилетия: революция Петра была ничуть не менее травматична. И челядь его воровала ничуть не меньше — стоит вспомнить Меньшикова. Ельцин, доводивший все до крайних проявлений, и сам состоял из крайностей, и люди при нем вырастали, а не съеживались. Сошлюсь на самого беспристрастного свидетеля — на русскую литературу.
Вот в чем один из главных парадоксов ельцинской эпохи: согласно новейшим публицистическим штампам, она состояла из самодурства и подвигов САМОГО (причем грань между самодурствами и подвигами давно размыта), из сдачи всех внешнеполитических позиций, из разгулов, пьянок и гулянок обнаглевшей челяди и ненасытного олигархата, из стремительной деградации армии, вымирания целых деревень, разбазаривания предприятий, из эсхатологических ожиданий, разорения науки и обнищания простого народа. Так вот: самодурство и подвиги в равной пропорции описаны в десятках томов (и даже там, где автор злобится, как Коржаков, — чувствуется некоторое упоение масштабом происходящего и зависть к себе самому, еще не оттесненному от пира всеблагих). Пьянки-гулянки отражены в каждом втором сочинении — Юрий Поляков и тут перестарался: у него ближайшее президентское окружение устраивает оргию в центре Парижа, трахая манекенщиц непосредственно среди икры и остужая натруженные орудия в бокалах наилучшей шампани. Мечты, мечты! Мнится, описывая этот разгул, каждый автор реализовывал свои (весьма плебейские) представления об элитной роскоши. Поляковские желания фантастически пошлы и столь же предсказуемы. Разбазаривание предприятий и бандитские разборки в литературе отражены столь же подробно — благодаря непревзойденным экономическим детективам Юлии Латыниной, сочинениям Дубова, Смоленского и Краснянского, Строгальщикова, Барщевского и Астахова, не говоря о тучах подражателей. Заводы делили, бабло пилили, сырье воровали — все как в жизни. Даже о распаде армии и чеченском позоре написано достаточно — Бабченко, Гуцко, Прилепин, Павлов, Сенчин: одни писали по личному опыту, другие с чужих слов и бегло, но картина складывается. Даже распад деревни отражен в сочинениях молодой Ирины Мамаевой и знаменитого Святослава Логинова. Но вот чего в текстах ельцинской эпохи совсем нет — так это обнищания масс, безработицы, безнадеги, смерти среднего класса и катастрофы маленького человека. Вообще начисто исчезли из литературы того времени два любимых типа русской словесности: маленький и лишний человеки. Лишних при Ельцине не было, потому что все оказались при деле. Когда-то еще будет шанс похапать, посмотреть мир, попросту сбежать? А маленького не было — потому что его не было и в реальности. Решая задачи титанической сложности, он и сам сделался титаном.
Удивительно: почему эпоха, о которой только и говорят, что она стала роковой и чудовищной для миллионов, ничего не знает про эти самые миллионы? Ведь литература наша — образцовое зеркало: она отражает все, что есть, и делает это точнее философии, публицистики, социологии, кинохроники... Где эти обнищавшие врачи и учителя, униженные военные, деклассированные интеллигенты, выброшенные на улицу старушки и несчастные эмэнэсы, вынужденные зарабатывать в зависимости от пола проституцией или попрошайничеством?
Ничего подобного мы не видели. А видели, напротив, взбодрившегося и сбросившего десять лет профессора, промышляющего челночничеством и влюбленного в напарницу, при которой он работает «верблюдом» («Роман с простатитом» А. Мелихова). Видели деклассированного интеллигента, отлично вписавшегося в социум и успешно трахающего новорусских жен («Герой нашего времени» и «Испуг» В. Маканина). Видели героя рабочего класса, нашедшего истинное счастье в драках за чужую собственность («Магнитные бури» А. Миндадзе, «Последний забой» В. Короткова). Даже тишайшего горожанина, выживающего в условиях дичайшего рынка, видели — в «Празднике саранчи» Луцика и Саморядова, в «Новых Робинзонах» Петрушевской... И хотя трудно найти большего недоброжелателя ельцинской эпохи, нежели А. Салуцкий, однако и в его романе «Из России с любовью» старая московская интеллигенция обретает второе дыхание, когда шьет на заказ или содержит малые предприятия. То есть все вымирали, но как-то никто не вымер. Приспособились. Катастрофа, как и дефолт 1998 года, обернулась стимулом. И вместо отчаяния, тоски, опущенных рук — романы о ельцинской эпохе живописуют дикий, необъяснимый азарт, овладевший вдруг самыми безнадежными тюфяками. Все ездят за границу, чем-то торгуют, вместо ненужных дел начинают заниматься нужными... Да, позорно, да, трудно, да, временами отвратительно — но, отнимая прежние возможности, эта эпоха по крайней мере давала новые. Все ее издержки отражены в русской литературе, кроме одной: страданий бедного народа. Потому что в девяностые годы, помимо страданий, у народа были другие дела. Он выживал — активно, талантливо и творчески. Пусть не благодаря, а вопреки Ельцину. Но Ельцин — в том числе Ельцин литературный — был так устроен, что даже врагов своих превращал в героев. Они его ненавидели, и поделом, но ни в чем ему не уступали.
Об этом говорит самый умный и беспристрастный наш свидетель — русская литература.

















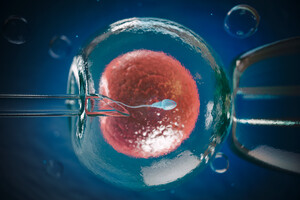
 Войти с помощью Google
Войти с помощью Google