Злость, пульсирующая в висках, — такова реакция каждого из нас на свидетельства потерпевших от сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Особенно, если это дети. Зло должно быть наказано, а справедливость восстановлена. Но это не всегда возможно. По крайней мере, для этого требуется время. Свидетельств все больше. Нас выкручивает и коробит. И иногда мы чувствуем себя бессильными и беспомощными. Волна агрессии, поднятая эмоционально рассказанными историями, в результате может быть направлена не на врага, а вглубь, на того, кто рядом.
О том, почему бездумное вынесение на публику конкретных историй опасно как для самих жертв военных преступлений российской армии, так и для украинского общества, и как правильно затрагивать эту щекотливую тему, ZN.UA говорило с психотерапевтом, правозащитницей, директором ГО «Форпост» Еленой Подолян.
Организация «Форпост» работает в сфере оказания психосоциальной помощи людям, пострадавшим от военных преступлений, и специалистам, которые им помогают. Также организация оказывает специализированные услуги жертвам истязаний в системе уголовной юстиции.
— Елена, тема изнасилований весьма табуирована в любом обществе. Сейчас же в СМИ и соцсетях появляется много историй и свидетельств преступлений, совершенных солдатами российской армии. В том числе на странице Уполномоченного по правам человека ВР. Иногда описания настолько эмоциональные и подробные, что это, мягко говоря, удивляет.
— Одно дело, когда человек, переживший сексуальное насилие в условиях войны, самостоятельно принимает решение обнародовать свою историю. Совсем другое, когда человека убеждают или делают это вместо него. То, как это происходит, как такая информация потом обрабатывается, в каком контексте выносится, очень важно.
Следует понимать: сексуальное насилие на войне является инструментом, влияющим на все общество. Это — оружие, которое враг применяет с намерением разорвать связи в социуме; поселить в людях ощущение беспомощности, страха, неотвратимости; посеять раздор, недоверие друг к другу. Дать почувствовать, что таких преступлений больше, чем мы об этом знаем. Мы видим, что люди активно «шерят» такие сообщения, и складывается впечатление, что потерпевших от сексуального насилия уже десятки тысяч.
И здесь перед нами, теми, кто оказывает помощь и документирует, встает вопрос, осознают ли те, кто распространяет свидетельства, к каким последствиям это приводит и действительно ли это те последствия, которых они хотят. Если это, например, представители СМИ, можно предположить, что их цель — обнародовать военные преступления армии РФ. В таком случае нужно тщательно работать с контекстом (в частности учитывать, что уже делается для помощи на локальном, государственном, международном уровнях), учитывать состояние пострадавшего, проводить интервью в безопасном месте, убирать подробности, по которым можно узнать пострадавшего.
Но... Если мы знаем, что факт был, и не один, а довольно много, то нужно ли нам свидетельство конкретного пострадавшего лица? Человек получает профессиональную помощь, проходит документирование, открыто уголовное производство (и хорошо, чтобы все эти действия происходили в правильной очередности), а его еще и просят рассказать свою историю СМИ. Сколько раз человек должен это делать? Это опасная ретравматизация. Человека, который выжил после сексуального насилия, начал получать помощь (кстати, бывали случаи, когда просили интервью у людей, которые еще даже не получили медпомощь!), заставляют чувствовать: если он не расскажет свою страшную историю, то преступления как бы и не будет, оно растает в воздухе, потому что поверят только жертве (в данном случае «жертва» — правовой статус). Такая «забота» иногда травмирует больше, чем само преступление. Человеку приходится переживать произошедшее снова и снова.
Давайте все-таки помнить, что только пострадавший должен решать, может и хочет ли он сейчас предоставить такую информацию.
— А когда речь идет о маленьких детях?
— Здесь особенная опасность. Чаще всего их родители или опекуны, ощущая страшную боль из-за того, что произошло, хотят об этом кричать. При этом дети зачастую не имеют возможности выбирать, хотят ли они, чтобы другие люди об этом знали. Даже, подчеркиваю, если их персональные данные не разглашаются. Ребенок, который уже умеет читать, может увидеть историю, даже не свою, а похожую. И это очень травматично. Вывернутое в общество личное проживается и ощущается болезненно.
Человек (а тем более ребенок) пережил сексуальное насилие. Его личностная и телесная границы были нарушены жесточайшим образом. Информация об этом обнародуется, и для человека все происходит снова... Столько раз, сколько он столкнется со своей историей в публичном пространстве.
Кроме того, мы должны осознавать, что человек, подвергшийся сексуальному насилию, пребывает в шоковом состоянии, которое, кстати, не всегда очевидно. Иногда потерпевшие от сексуального насилия могут выглядеть спокойными и даже отстраненными. Но на нас лежит ответственность — учитывать время и обстоятельства! Пострадавший может довериться тому, кто сочувствует и сопереживает, а потом пожалеть, что рассказал свою историю. И даже если персональные данные не обнародуются, его переживания, чувства и страдания уже задокументированы для всех.
— И что делать в такой ситуации? Дать истории отлежаться, а потом еще раз спросить, готов ли человек к этому?
— Да. Было несколько случаев, когда люди сами писали в соцсетях о том, что они пострадали от сексуального насилия в условиях войны. Если человек сам принял решение об этом рассказать, это его выбор и право. И здесь нам, свидетелям, нужно очень много эмоциональных сил, чтобы воспринять это достойно. Не высказывая непрошеных советов и собственных чрезмерных рефлексий.
Но когда человеку предлагают рассказать, то, подчеркиваю, нужно десять раз себя переспросить: с какой целью? Если мы документируем и составляем все свидетельства для дальнейших национальных или международных судебных разбирательств, это одно дело. А когда мы делаем их достоянием гласности, то должны осознавать, делаем ли это достаточно экологично, понимаем ли, какую информацию выдаем, единственный ли у нас источник информации — только пострадавшее лицо, готовы ли мы как ответственные профессионалы собирать информацию от близких, окружения, специалистов, оказывавших помощь.
— Часто такие истории пересказывает само окружение — знакомые, родственники и другие. С одной стороны, очевидцев призывают свидетельствовать о таких событиях. С другой — имеют ли они право рассказывать это всем?
— Надо понимать, что творится с человеком, который о таком узнал. Если это близкие (например, ситуация с детьми), то людям очень больно. Они хотят справедливости любой ценой, и иногда их эмоциональная боль и чувство вины от невозможности что-либо изменить так интенсивны, что человеку сложно оценивать последствия огласки. В первую очередь надо обращаться в правоохранительные органы и профессиональные общественные организации, которые сопровождают потерпевших от сексуального насилия в условиях войны, помогают им и имеют ресурсы для обеспечения комплекса необходимых услуг.
Но мы же понимаем, что так происходит не всегда. Думаю, здесь не от близких и родных нужно ожидать зрелости в реакциях. Нам нужно формировать общественный дискурс, где мы должны говорить и разъяснять, поддерживать друг друга в профессиональности подхода к таким случаям. Иначе есть риск, что оккупанты достигнут цели: мы будем чувствовать себя беспомощными, мы убедимся, что справедливости нет и мы не в силах наказать виновных.
Мы должны рассказывать о том, как собирают доказательства, куда их подают, что с ними потом происходит. Что есть разные инстанции. Где-то государство судится с государством. Где-то — комитеты, которые собирают статистику о количестве совершенных преступлений и потерпевших и тому подобное. Какие правовые процедуры потом включаются для защиты интересов и конкретных украинцев, и государства Украина в целом.
— Вы сказали: когда мы все это видим, читаем, у нас складывается впечатление, что таких историй десятки тысяч. А на самом деле сколько?
— Две недели назад медики зафиксировали около сотни таких случаев. Мы понимаем, что их намного больше. Но это не десятки тысяч, как пишут в соцсетях.
— Однако мы понимаем, что и такое возможно. Это бывало в истории раньше. Например, во время Второй мировой — со стороны Красной армии и во время войны в Чечне — со стороны российской.
— Да. И мы еще не знаем, что произошло в Мариуполе. Сейчас там нет возможности проводить фиксацию. А люди, которые выехали, по понятным причинам, не сразу готовы свидетельствовать. Поэтому говорить о количестве слишком рано.
Действительно, из истории мы знаем, что когда советская армия заходила в Берлин, были изнасилованы около двух миллионов немок. Многие из их погибли сразу после этого — либо от полученных травм, либо от солдатских пуль. Сколько после изнасилований родилось детей, никто не знает. Эти дети, кстати, тоже являются жертвами военных преступлений. С их рождением отношения в семье не могут быть преисполнены любви и заботы, как после появления желанного ребенка. Страдают и родители, и дети. И нуждаются в профессиональной помощи и справедливости.
Но эти преступления никогда не были расследованы и должным образом задокументированы. Справедливый суд не состоялся. Виновники, к сожалению, не были привлечены к ответственности. И если посмотреть на активизацию Германии в связи с ситуацией в Украине — решение наконец предоставить оружие, — можно увидеть, что они опомнились только тогда, когда услышали об этих изнасилованиях. Это их травма, которую они несут в себе до сих пор.
В свое время Германия официально была признана страной-агрессором и выплачивала репарации. Однако преступления в отношении ее мирного населения расследованы не были. Поэтому то, что произошло в Украине, стало для немцев триггером.
Как нам известно, во многих странах именно россияне используют изнасилование. Это и есть суть денацификации, которую они хотят проводить: разрушить в людях доверие к миру как такому, где существуют человечность и справедливость; сломать и уничтожить чувство собственного достоинства; разорвать связи между людьми. Потому что в обществах, в которых тема сексуального насилия табуирована, потерпевших сексуальное насилие стигматизируют. И они очень часто замалчивают совершенные против них преступления.
Если же потерпевшие от сексуального насилия не получают должной мультидисциплинарной помощи — правовой, медицинской, психологической, социальной — и статуса в государстве и на международному уровне, это формирует у них недоверие, и потом им очень сложно формировать доверительные связи с другими. Что, в свою очередь, приводит к бедности, потере работы и контактов с окружением, часто — маргинализации.
Но этих страшных последствий, о которых я сказала, в Украине не будет. Потому что мы об этом говорим. Мои коллеги очень много работают с этой темой. Кроме того, что каждому оказываем профессиональную помощь, мы все очень тесно сотрудничаем с правозащитниками, правоохранительными органами, медиками. Поэтому в Украине оккупанты своей цели не достигнут.
— Вряд ли можно сказать, что эта тема в нашем обществе в какой-то степени не была табуирована. Она очень болезненна на самом деле.
— Была табуирована. Но в Украине, в отличие от некоторых других стран, культурно между неверностью и изнасилованием не ставится знак равенства. И никогда не было такой установки, что с человеком, пережившим сексуальное преступление, нельзя создавать семью, строить отношения и тому подобное.
Да, в значительной степени эта тема для нас была сложной. Но табуирована она была иным образом. Мы ее избегали, скрывали. Возможно, то, что сейчас мы переживаем выплеск наружу такой информации, станет нашим взрослением смысле того, как с этой темой обходиться. О ней надо говорить. Но сейчас нам надо думать и учиться, как это делать правильно.
— До войны неединичной реакцией на случаи изнасилования было «сама виновата». В какой-то степени это прослеживается и сейчас. Например, в советах «что делать, чтобы тебя не изнасиловали оккупанты».
— Наверное, я живу в очень комфортном пузыре профессионалов и людей, которые умеют с этим работать. Поэтому не всегда у нас есть достаточно объективная картинка. Согласна, и такие мысли могут озвучивать.
Что нужно знать обычным людям? Если мы оказались в зоне боевых действий, то предвидеть, кто из нас может стать жертвой осколка или сексуального преступления, невозможно. Выбор жертвы на войне всегда случайный. Была дана команда «уничтожать все» — насиловать, пытать, убивать, мучить людей, которые говорят по-украински. Это же денацификация — уничтожение идентичности украинцев как общества и украинского как такового.
Здесь мы стоим перед вопросом, нужно ли выезжать. Государственные органы сейчас делают все возможное, призывая население эвакуироваться из опасных районов. И это правильная политика. Однако какое-то количество гражданских людей останется в опасных районах. Например, те, кто лечит, обеспечивает провизией, лекарствами, обслуживает инфраструктурные объекты и так далее. Позволять себе в общественном дискурсе использовать «сама виновата» — это опасно, токсично. Это подыгрывание врагу. Сознательное или от внутренней боли и беспомощности. И об этом тоже надо говорить. Люди, прежде чем что-то заявить о трагической истории, подумайте: а что вы чувствуете в данный момент? Может, вам самим так больно, что вы нуждаетесь в профессиональной помощи или, по крайней мере дружеской эмоциональной поддержке?
Вообще же, «сама виновата» — это, скорее, об аргументации войны России против Украины. То, чем они внутренне руководствуются. Как каждый насильник, у которого нет другого оправдания перед самим собой. «...А потом она сама 40 раз упала на нож», потому что НАТО нас «накачивало» оружием.
— Вы упоминали, что на истории есть много журналистских запросов. И что освещение конкретных историй может вселять в социум чувство беспомощности, страха, сеять раздор и недоверие. Мне казалось, что это вызывает у нас злость. И именно это является целью оккупантов. Заставить нас отвечать таким же образом и в глазах мира скатиться в маргинес. По крайней мере, так произошло в Чечне.
— Журналисты, которые обращались ко мне относительно историй потерпевших от сексуального насилия, в первую очередь хотели предоставить своей аудитории информацию о том, что нечеловеческое обращение, военные преступления действительно имели место. И у меня всегда был к ним один вопрос: уверены ли вы, что только свидетельства потерпевших придадут информации весомости? Что только подробности пережитого человеком смогут заверить общество в том, что нечеловеческое происходит?
Чтобы привлечь внимание к военным преступлениям (в том числе и внимание мира, чтобы он давал еще больше вооружений, гуманитарной помощи, принимал беженцев, разрабатывал соответствующие программы для их поддержки), по моему мнению, прежде всего нужно общаться со специалистами, которые помогают тем, кто пострадал. И не просить у них контактов, а получать разъяснения, спрашивать, что делается сейчас на государственном уровне и на уровне неправительственных организаций для помощи и сопровождения.
Относительно зверств и провоцирования агрессии. На культурном уровне у нас нет установок «кровь за кровь», «резать головы» и тому подобное. У украинской армии, добровольцев и теробороны сейчас есть много возможностей отвечать врагу. Но что чувствуют люди, у которых нет оружия на руках? Посмотрите, какая наэлектризованная ситуация в коммуникациях между нами, сколько споров о том, что правильно, а что — нет. Сколько распрей, недоверия, разборок, скандалов происходит между своими — волонтерами, просто гражданами Украины. Между людьми, у которых нет оружия, нет возможности ответить захватчикам, оккупантам, извергам. Это и демонстрирует все наши чувства — агрессию, злость, страх, которые мы, к сожалению, направляем друг на друга, на людей, которые в принципе заинтересованы в одном и том же. Потому что мы не можем непосредственно ответить врагу. Нам нужно взрослеть, учиться осознавать собственные эмоциональные реакции и говорить об этом между собой и в общем. Отыгрывать в свой социум — очень опасная вещь. Это и есть тот раздор, который несет прямую выгоду оккупанту.
Мне очень больно от того, что иногда даже люди, которые понимают, как работать в этой теме, переполняются своими чувствами и постят непроверенную информацию, по сути бессознательно подыгрывая врагу.
Я понимаю, что заголовок, который несет свидетельства жертв, привлекает больше внимания. Что с этим делать? Думаю, здесь очень важна работа СМИ. Они должны это понимать и разъяснять. Наше выживание сейчас и качество нашей жизни в дальнейшем зависят от того, насколько мы способны сотрудничать друг с другом; не только слышать свою боль, но и видеть и чувствовать человека напротив, с его болью, с тем, что он хочет сказать. Уметь справиться со своими эмоциями. Потому что люди на фронте в первую очередь получают физические ранения. А те, кто обеспечивает тыл, — эмоциональные. Мы должны овладевать своими эмоциям и осознавать последствия того, что мы говорим публично.
Больше статей Аллы Котляр читайте по ссылке.









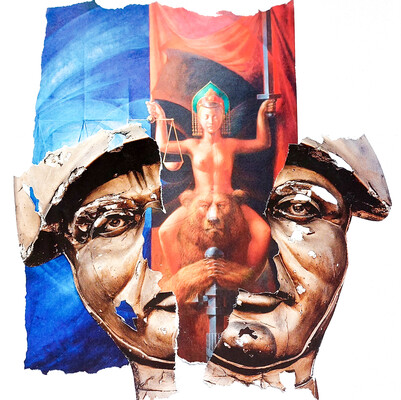














 Войти с помощью Google
Войти с помощью Google