Мы трагически одиноки в этом мире. За два десятка лет наша страна так и не удосужилась обрасти влиятельными друзьями, подтверждающими нашу перспективность. Так и не сподобилась обзавестись достойными врагами, подчеркивающими нашу значимость. Украина никого вокруг так толком и не убедила в том, что она - действительно надежный союзник, взаправду интересный оппонент и впрямь опасный соперник. Вовне наше государство, похоже, воспринимают как некий геополитический суррогат. Недорогое, невкусное и неопасное блюдо. Вполне сносное с точки зрения соотношения цены и качества. В равной степени лишенное и витаминов, и канцерогенов.
Антинародные режимы здесь устанавливаются не силой штыков и коварством интриг, они с завидным постоянством внедряются посредством демократических процедур.
Упорство, с которым мы повторяем ошибки, заслуживает лучшего применения. Легкость, с которой мы порою отказываемся от завоеванного, поистине непостижима. Наши таланты отчего-то востребованы преимущественно на чужбине. Наша безвкусица претенциозна - как туфли из страусовой кожи.
Мы утомляем и раздражаем. Нам сочувствуют и уступают. Нами интересуются и пренебрегают. На нас машут рукой и строят расчеты. Нас жалеют и поучают. Нас не приемлют и не отторгают. Но мы не вызываем любви, не пробуждаем ненависти, не порождаем восхищения и не вселяем ужаса. Высокие страсти по отношению к себе мы выдумываем для повышения самооценки. У нашего народа богатый внутренний мир, но мир внешний об этом почти не догадывается. Каждый из нас давно устал удивляться тому, что его окружает. Но все вместе мы периодически неприятно удивляем окружающих.
Мы не все такие. Но «таких» среди нас достаточно, чтобы о стране (не заслуживающей столь тоскливой юдоли) в целом судили не слишком лестно.
Украина позволяет себе причудливую роскошь - заносить вероятных противников в список стратегических партнеров. Тем самым освобождая их от утомительной потребности постоянно играть мускулами. И они с заметным облегчением играют на наших слабостях, противоречиях, страхах, надеждах. На жадности одних, неуверенности других, разобщенности третьих. Играют на нашем поле по своим правилам. Подыгрывают и разыгрывают. Не страшась организованной контригры.
Использование техники интриг избавляет наших недоброжелателей от необходимости применять бронетехнику. Деньги перемещаются быстрее сверхзвуковых истребителей. Шантаж разит метче любого высокоточного оружия. Жизненное пространство отвоевывают у нас сколь незаметно, столь и неумолимо.
Украина не стала реальным субъектом большой политики. И почти перестала быть ее объектом. Нам все реже доверяют сложные роли. Буфер, труба, мост, пугало. Санитарный кордон, газовый вентиль, ручной тормоз. Потенциальный рынок земли, растущий рынок сбыта наркотиков. Необъятный рынок потребления дешевого шмотья из Китая, списанной вакцины из Индии, а также списанных (но все равно дорогих) «звезд» из России.
Кто мы для той части мира, которой ведомо о нашем существовании? Белое пятно, черная дыра, розовый пояс, серая зона, красная тряпка?
Сильные мира сего без труда и опаски позволяют себе договариваться о нашей судьбе за нас и без нас. Недавно обретенная официальная внеблоковость на этот процесс никоим образом не влияет. Узаконенная геополитическая самость - лишь фиксация нашего состояния. Мы - одиночки. И, возможно, мы такие одни.
Современные труды по изучению украинского характера пестрят определениями вроде «неспешность», «умеренность», «толерантность», «неамбициозность», «пассивность», «конформизм», «патернализм». Изоляционизм и недоверчивость знатоки называют нашими национальными особенностями, рассматривая их как проявление базового инстинкта самосохранения. Как реакцию на многовековые беды, унижения, гонения, чистки, голодоморы и войны. Возможно, это стало дьявольской местью этносу, решившемуся на самое массовое, организованное и продолжительное сопротивление советскому режиму.
На заре независимости наша слабость обернулась силой. Союз жил грешно и умирал страшно. Об этом стоит помнить политическим склеротикам, ныне охотно эксплуатирующим советскую ностальгию. Об этом стоит знать тем, кто при советской власти не жил и знаком с ней исключительно по милым старорежимным кинолентам. Я гляжу на подростка, наряженного в футболку с надписью «СССР», и недоумеваю: откуда у парня советская грусть? Почти четверть века назад у сержанта (дослуживавшего в нашем подразделении после расформирования его части, выведенной из Афганистана) спросили, не жалеет ли он, что попал «за речку». Парень ответил без привычных пафоса или горечи: «А чего… Мир посмотрел…» Его слова адресую тем юношам, кто ненавидит эту страну исключительно из-за нехватки денег на поездку в Турцию. В «той» стране билет на войну был одним из немногих способов «увидеть мир».
С 1988-го автоматные очереди вспарывали карту разлагавшейся страны. Алма-Ата и Душанбе, Степанакерт и Дубоссары, Баку и Тбилиси, Ош и Новый Узень, Ереван и Андижан, Вильнюс и Рига вспыхивали на этой карте зловещими кровавыми точками. Понять происходящее было трудно, принять - невозможно. Все еще робеющая перестроечная пресса о происходящем вещала скудно и отрывисто, но пробелы стремительно заполнялись холодящими душу слухами. Война вламывалась в наш дом, пускай она и хозяйничала у соседей. Немногим позже мы будем взирать на телекартинки взрывающейся Москвы, перемолотого Грозного, окровавленного Беслана, изувеченного Цхинвали несколько отстраненнее. Как на глубокое горе, случившееся, по счастью, где-то далеко. Но тогда, два десятилетия назад, почти каждый мог отчетливо почувствовать спертое дыхание ненависти, расползавшейся по нашей общей коммунальной квартире. Опасность выглядела зримой, явственной. Жутко было представить родную улицу, «украшенную» обугленными скелетами сгоревших троллейбусов. Зловонными кострами, в которых догорали останки людей, с которыми ты вчера ходил на дискотеку или ссорился в очереди за колбасой. Жутко было представить соседа, пришедшего к тебе утром с топором вместо привычной вечерней бутылки пива.
Безусловно, для многих подобный страх не был явным, у подавляющего большинства он носил подсознательный характер. Но латентно этот страх наверняка присутствовал у всех, кому было за кого бояться и что терять. Пускай это нынче помнят не все, кому сегодня хотя бы за сорок. Пускай это поймут не все, кому нынче двадцать.
Каждый из нас тогда интуитивно (но при этом очень четко) осознавал, в какой стране он не хочет жить. В какой хочет, осмелюсь думать, не понимал почти никто. Просто самостоятельная государственность в 1991-м виделась самой простой и наиболее очевидной альтернативой надвигающимся ужасам. Благородным бегством из страны множащихся убийств и плодящихся убийц. Именно в этом, возможно, кроется причина такой массовой и повсеместной поддержки «державности», столь удивившей всех двадцать лет тому. В этом, а вовсе не в низменном желании каждый день есть дешевую колбасу и ни с кем ею не делиться. И отнюдь не в возвышенном патриотическом настрое, внезапно овладевшем массами.
Что, впрочем, нисколько не умаляет героизма бесстрашных одиночек, долго, последовательно и ожесточенно боровшихся с режимом за священное право нации на самоопределение. Или порывистой отваги студентов, высекших свои имена на гранитных скрижалях Майдана стылой осенью 90-го.
Но, боюсь, что осознанная тяга к полноценной самостоятельности, к государственной состоятельности, двадцать лет назад еще не квартировала в душах подавляющего большинства моих соплеменников. Что не помешало 90,32% участников всеукраинского референдума (или 28 804 071 человеку, если переходить на абсолютные цифры) поддержать Акт провозглашения независимости. Но это случилось тогда, когда колосс уже рухнул.
Мы лишь подождали немного. Генетический ужас перед новыми жертвами и очередными потерями придал нам редкостное хладнокровие. Возможно, мы - народ, не рожденный для штурма. Абсолютно точно, что мы - народ, всегда готовый к осаде. Украинцы не прячутся, они скрываются. Украинцы не сдаются, пока есть куда отступать. Когда отступать некуда, они отступают в себя. Говорю это безо всякой иронии, принимая сие за вынужденное достоинство, а не за непринужденный грех. В память о миллионах павших смертью храбрых нация обучилась жить жизнью осторожных.
Лет пять назад один фотограф, в 1990/91 много работавший «на улице», поделился любопытным наблюдением. По его словам, на лицах митингующих киевлян в те времена было куда меньше шалого восторга, в сравнении с москвичами, тбилисцами, вильнюсцами или ереванцами. Наши были более осторожны в своем воодушевлении. Мой собеседник затейливо назвал это вдумчивой эмоциональностью, сравнив увиденный настрой с искренней, и в то же время сдержанной веселостью жениха на свадьбе или призывника на проводах. Возможно, то была радость освобождения от естественного страха перед неизбежным.
Упрекать украинцев в том, что в августе 1991-го они не устраивали показательных боев за независимость, не возводили декоративных баррикад и не создавали потешных легионов, наверное, глупо. Так же, как упрекать братьев Кличко в излишней расчетливости после очередной убедительной победы.
В 1991-м мы выиграли свой бой потому, что смогли его избежать. Это в Белокаменной Ельцин гарцевал на танке, Ростропович дремал в «Белом доме» с автоматом в руках, а неприкаянные БМП путчистов бестолково сновали по московским проспектам. Это у них был путч. А у нас, кто забыл, была уборочная страда. Именно о ней в обращении к населению говорил Кравчук в то время, когда Янаев призывал к наведению порядка, а Ельцин - к защите демократии. У нас не было героев. И не было жертв. Ни тогда, ни потом. Если у нас была возможность избежать крови, мы этой возможностью пользовались. О чем бы ни шла речь - о Крыме, Тузле или Майдане (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить)…
В пронзительном фильме «Ветер, что колышет вереск», повествующем о трагических событиях гражданской войны в Ирландии, есть драматический эпизод. Главному герою от имени руководства ИРА приказано расстрелять подозреваемого в предательстве подростка, которого он знал еще с младенчества, с которым делил кров и стол. Перед исполнением страшного приговора палач поневоле произносит: «Надеюсь, Ирландия, за которую мы сражаемся, стоит этого…»
Может быть, мы не знаем, чего для каждого из нас стоит Украина потому, что мы за нее не сражались? Неужели правы те, кто говорит, что только пролитая кровь должна была пробудить в нас зов крови? Ведь, осознавая, из какой страны мы бежим, мы так и не поняли, в какую страну стремимся. И у нас не оказалось ничего, способного объединить. Разорвать наше одиночество в многомиллионной толпе…
Мы скептически относимся к попыткам Европы отстоять общие ценности, словно забывая о том, что свои ценности мы еще не только не сформировали, но даже не сформулировали.
Что нас единит? Конституция? Изувеченная, оскверненная, никем не исполняемая и всеми проклятая?
Язык, который позволительно игнорировать, коверкать, называть телячьим и отрицать сам факт его существования?
Герб, вот уже пятнадцать лет ожидающий законодательного утверждения?
Так и не написанная, но уже всех перессорившая история?
Церковь? Какая именно?
Может быть державное знамя? Которое заезжий клоун может безнаказанно назвать «трусами Ющенко»?
В 1969 году публичное надругательство сальвадорских футбольных болельщиков над государственным флагом Гондураса, по сути, спровоцировало знаменитую «футбольную войну», в ходе которой стороны использовали авиацию, артиллерию и бронетехнику и которая была прекращена лишь при посредничестве ООН. Мирный договор два государства заключили лишь десять лет спустя. Говорите, не ту страну назвали Гондурасом?
Уже не припомню, кто из академических исследователей украинского патриотизма рассуждал об атрофии общенационального и гипертрофии личного даже у тех, кто искренно любит свою родину. О доминировании хутора над страной. Об эгоистическом патриотизме. Позволю себе еще раз напомнить читателю уже не раз цитировавшиеся пророческие слова Симона Петлюры: «Мы по очереди любим Отчизну, но еще никогда не любили ее вместе, не горели одним, могучим, общим чувством любви к ней. Каждый из нас часто для себя лишь хочет приобрести патент на патриотизм, но пока что никто из нас не имеет его отдельно, а имеем ли мы его все вместе?»
Мы слишком долго прятались в себе. Может быть, пришла пора из себя выйти? Хотя бы для того, чтобы наконец увидеть и услышать друг друга. И сообща ответить на давний вопрос Леонида Кучмы - что будем строить?
В нашей истории уже была серьезная заявка на единение. Объяснимая, но оттого не менее непостижимая. Но мы отчего-то устыдились своего порыва семилетней давности, столь непривычного для «конформистов» и «патерналистов». И только ли лукавые политики повинны в нашем разочаровании, только ли они, розничные торговцы нашими надеждами и оптовые покупатели наших голосов? А может быть, наш извечный страх потерять малое, но свое? Наше неверие в обретение великого и общего?
Мы потеряли слишком много времени. И нам еще есть, что спасать. И есть кого. Самих себя - от одиночества.

















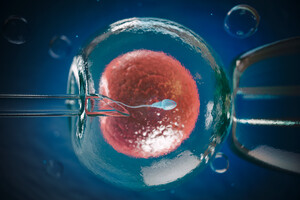
 Войти с помощью Google
Войти с помощью Google