Слова, вынесенные в заголовок, взяты из рассказа Исаака Бабеля «Колывушка», написанного весной 1930 года и посвященного коллективизации в Украине, в частности на Киевщине. Драматична судьба этого произведения.
В декабре 1929 года Бабель пишет критику Вячеславу Полонскому: «Дорогой В.П. Выискиваю повод поехать в Киев, а оттуда в районы сплошной коллективизации, чтобы тут же описать это событие…» Выезжая из Киева в Борисполь 16.02.1930 года, он писал родным: «…Сейчас идет в сущности полное преобразование села и сельской жизни… событие, которое по интересу и важности переходит все, что мы видели в наше время». Еще письмо: «И.Лившицу. Борисполь. 20.02.30. Я ночую в Бориспольском районе сплошной коллективизации. Hоchst interessant (чрезвычайно интересно — немецк. — В.Д.). Завтра собираюсь опуститься на жительство в одном из самых г лухих сел… И.Б.» Из Борисполя Бабель переехал в село Великая Старица, где прожил в доме учителя Кирилла Менжеги почти два месяца. Пребывание в этом селе оставило у писателя, как он сообщал родным, «одно из самых резких воспоминаний за всю жизнь — до сей минуты просыпаюсь в липком поту».
Спустя год Исаак Эммануилович писал своей будущей жене Антонине Николаевне Пирожковой: «…Повидал я в Гражданскую потасовку много унижений, топтаний и изничтожений человека как такового, но все это было физическое унижение, топтание и изничтожение. Здесь же, под Киевом, добротного, мудрого и крепкого человека превращают в бездомную, шелудивую и паскудную собаку, которую все чураются, как чумную. Даже не собаку, а нечто не млекопитающееся…»
В марте 1931 года Бабель, находясь в Киеве и живя в семье Махотинских, несколько раз навещал знакомых в Великой Старице, жил там по два-три дня. В результате родился замысел книги о коллективизации. И вот в десятом номере журнала «Новый мир» за 1931 год напечатан первый документальный рассказ «Гапа Гужва». Бабель писал редактору журнала: «Во избежание пересудов и недоразумений ставшее дорогим мне село Великая Старица я заменил на Великая Криница (это колодец такой — светлый и чистый, как первый иней в белую ночь). Если «Гапу» свою я посвятил сельской свадьбе, этой ниагаре чувств, страстей, кушаний и веселья, то «Колывушка» — мой следующий рассказ — будет о весьма серьезных наших делах».
Бабель, судя по его переписке, долгое время работал над этой книгой, буквально жил ею. К примеру, журналистке Татьяне Тэсс 24.04.1932 года он пишет: «Третий день болит голова. Дьявольский климат. При таком климате надо бы каждому гражданину, ни в чем особенном не замеченному, раздавать по карточкам по крупице радия, чтобы он лучеиспускал. Неумолчно ревет корова. Она требует трех вещей — травы, солнца и супружества. Ревет она упрямо, забирая все вещи, вытягивает морду из стойла и таращит глаза. С таким откровенным характером, конечно, ей легко живется на свете… Смотрю на корову из села Молоденово, а сам пишу о Великой Старице — селе в тысячах километров от Молоденово…» Но следующая глава из этой книги под названием «Колывушка» в «Новом мире» так и не была опубликована.
Затем, как известно, писатель был репрессирован и расстрелян, а все его рукописи уничтожены. Но кто-то вывез за границу один из рабочих вариантов рассказа «Колывушка», и в 1963 году он был опубликован в США, а после 1985 года — и в СССР, но с купюрами. Публикуем рассказ полностью.
Колывушка
Исаак БАБЕЛЬ
Исаак Бабель. Фото Татьяны Тэсс. Январь 1930 года. |
— Сколько податку платит? — вертясь, спросил Ивашко.
Голова Евдоким, сунув руки в карманы, наблюдал за тем, как летит колесо прялки.
Ивашко фыркнул, узнав, что Колывушка платит двести шестнадцать рублей.
— Бильш не здужив?
— Видно, что не сдужил... —
Житняк растянул сухие губы, голова Евдоким все смотрел на прялку. Колывушка, стоявший у порога, мигнул жене, та вынула из-за образов квитанцию и подала уполномоченному Рика.
— Семфонд?.. — Ивашко спрашивал отрывисто, от нетерпения он ерзал ногой, вдавливая ее в половицы.
Евдоким поднял глаза и обвел ими хату.
— В этом господарстве, — сказал Евдоким, — все сдано, товарищ представник... В этом господарстве не может того быть, чтобы не сдано...
Беленые стены низким теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту. Ивашко снялся со своего места и побежал с вихляющим портфелем к выходу.
— Товарищ представник,— Колывушка ступил вслед за ним,— распоряжение будет мне или как?..
— Довидку получишь, — болтая руками, прокричал Ивашко и побежал дальше.
За ним двигался Адриян Моринец, нечеловечески громадный. Веселый виконавец Тымиш мелькнул у ворот, — вслед за Ивашкой. Тымиш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы.
— У чому справа, Тымиш?..
Иван поманил его и схватил за рукав. Виконавец, веселая жердь, перегнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугом.
— Дом твой под реманент забирают...
— А меня?..
— Тебя — на высылку...
И журавлиными сырыми ногами Тымиш бросился догонять начальство.
Во дворе у Ивана стояла запряженная лошадь. Красные вожжи были брошены на мешки с пшеницей. У погнувшейся липы посреди двора стоял пень, в нем торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул ее и сел. Кобыла подтащила к нему розвальни, высунула язык и сложила его трубочкой. Лошадь была жереба, живот ее оттягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги. Истоптанный снег рябил вокруг пня. Сутулясь, Колывушка вытянул топор, подержал его в воздухе, на весу, и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое прыгнуло и прижалось; кобыла застонала и понесла. Розвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разостлалась по снегу.
Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бороны. Из-под кровавой, льющейся завесы вышли ее глаза. Жалуясь, она запела. Жеребенок повернулся в ней, жила вспухла на ее брюхе.
— Помиримось,— протягивая ей руку, сказал Иван,— помиримось, дочка...
Ладонь в его руке была раскрыта. Ухо лошади повисло, глаза ее косили, кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовала с мордой прямую линию. Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии. Она натянула шлею и двинулась, таща прыгавшую борону. Иван отвел за спину руку с топором. Удар пришелся между глаз, в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю веялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину, и поворачивал топор в тонком плетении колес и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце.
— Маты,— услышал Иван далекий голос, — маты, он все погубляет...
Дверь открылась; из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстиновых штанах. Желтые волосы облегали дыры ее щек, рубаха висела, как саван на плоском ее теле. Старуха вступила в снег мохнатыми чулками.
— Кат,— отнимая топор, сказала она сыну,— ты отца вспомнил?.. Ты братов, каторжников, вспомнил?..
Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала.
— Примись, стерво,— сказал ей муж.
Иван стоял, упершись в стену. Дыхание его, гремя, разносилось по двору. Казалось, он производит трудную работу, вбирая в себя воздух и выталкивая его.
Дядька Колывушки, Терентий, бегая вокруг ворот, пытался запереть их.
— Я человек, — сказал вдруг Иван окружившим его, — я есть человек, селянин... Неужто вы человека не бачили?..
Терентий, толкаясь и приседая, прогнал посторонних. Ворота завизжали и съехались. Раскрылись они к вечеру. Из них выплыли сани, туго, с перекатом, уложенные добром. Женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы. На веревке, привязанная за рога, шла корова. Воз проехал краем села и утонул в снежной, плоской пустыне. Ветер мял снизу и стонал в этой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть, блестя, оплетала небо.
Колывушка, глядя прямо перед собой, прошел по улице к сельраде. Там шло заседание нового колхоза «Видродження». За столом распластался горбатый Житняк.
— Перемена нашей жизни, в чем она есть, ця перемена?
Руки горбуна прижимались к туловищу и снова уносились.
— Селяне, мы переходим к молочно-огородному направлению, тут громаднейшее значение... Батьки и деды наши топтали чеботами клад, в настоящее время мы его вырываем. Разве это не позор, разве ж то не ганьба, что, существуя в яких-нибудь шестидесяти верстах от центрального нашего миста, мы не поладили господарства на научных данных? Очи наши были затворены, селяне, утикать мы утикали сами от себя... Что такое обозначает шестьдесят верст, кому это известно?.. В нашей державе это обозначает час времени, но и цей малый час есть человеческое наше имущество, есть драгоценность...
Дверь сельрады раскрылась. Колывушка в литом полушубке и высокой шапке прошел к стене. Пальцы Ивашки запрыгали и врылись в бумаги.
— Позбавленных права голоса, — сказал он, глядя вниз на бумаги, — прохаю залишить наши сборы...
За окном, за грязными стеклами, разливался закат, изумрудные его потоки. В сумерках деревенской избы, в сыром дыму махорки слабо блестели искры. Иван снял шапку, корона черных его волос развалилась.
Он подошел к столу, за которым сидел президиум, — батрачка Ивга Мовчан, голова Евдоким и безмолвный Адриян Моринец.
— Мир, — сказал Колывушка, протянул руку и положил на стол связку ключей, — я увольняюсь от вас, мир... — Железо, прозвенев, легло на почернелые доски. Из тьмы вышло искаженное лицо Адрияна.
— Куда ты пойдешь, Иване?..
— Люди не приймают, может, земля примет...
Иван вышел на цыпочках, ныряя головой.
— Номер, — взвизгнул Ивашко, как только дверь закрылась за ним, — самая провокация... Он за обрезом пошел, он никуда, кроме как за обрезом, не пойдет...
Ивашко застучал кулаком по столу. К устам его рвались слова о панике и о том, чтобы соблюдать спокойствие. Лицо Адрияна снова втянулось в темный угол.
— Не, — сказал он из тьмы, — мабуть не за обрезом, представник.
— Маю пропозицию... — вскричал Ивашко.
Предложение состояло в том, чтобы нарядить стражу у Колывушкиной хаты. В стражники выбрали Тымиша, виконавца. Гримасничая, он вынес на крыльцо венский стул, развалился на нем, поставил у ног своих дробовик и дубинку. С высоты крыльца, с высоты деревенского своего трона Тымиш перекликался с девками, свистал, выл и постукивал дробовиком. Ночь была лилова, тяжела, как горный цветной камень. Жилы застывших ручьев пролегали в ней; звезда спустилась в колодцы черных облаков.
Наутро Тымиш донес, что происшествий не было. Иван ночевал у деда Абрама, у старика, заросшего диким мясом. С вечера Абрам протащился к колодцу.
— Ты зачем, диду Абрам?..
— Самовар буду ставить, — сказал дед.
Они спали поздно. Над хатами закурился дым; их дверь все была затворена.
— Смылся, — сказал Ивашко на собрании колхоза, — заплачем чи шо?.. Как вы мыслите, селяне?..
Житняк, раскинув по столу трепещущие острые локти, записывал в книгу приметы обобществленных лошадей. Горб его отбрасывал движущуюся тень.
— Чем нам теперь глотку запхнешь, — разглагольствовал Житняк между делом, — нам теперь все на свете нужно... Дождевиков искусственных надо, распашников надо пружинных, трактора, насосы... Это есть ненасытность, селяне... Вся наша держава есть ненасытная...
Лошади, которых записывал Житняк, все были гнедые и пегие, по именам их звали «Мальчик» и «Жданка». Житняк заставлял владельцев расписываться против каждой фамилии.
Его прервал шум, глухой и дальний топот. Прибой накатывался и плескал в Великую Старицу. По разломившейся улице повалила толпа. Безногие катились впереди нее. Невидимая хоругвь реяла над толпой. Добежав до сельрады, люди сменили ноги и построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют для попа во время крестного хода. В кругу стоял Колывушка в рубахе навыпуск под жилеткой, с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону, черного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы, уносимые ветром, пронеслись под потеплевшим небом. Старик со сломанными ногами, подавшись вперед, с жадностью смотрел на белые волосы Колывушки.
— Скажи, Иване, — поднимая руки, произнес старик, — скажи народу, что ты маешь на душе...
— Куда вы гоните меня, мир, — прошептал Колывушка, озираясь,— куда я пойду... Я рожденный среди вас, мир...
Ворчанье проползло в рядах. Разбрасывая людей, Моринец выбрался вперед.
— Нехай робит, — вопль не мог вырваться из могучего его тела, низкий голос дрожал, — нехай робит... чью долю он заест?..
— Мою, — сказал Житняк и засмеялся. Шаркая ногами, он подошел к Колывушке и подмигнул ему. — Цию ночку я с бабой переспал, — сказал горбун,— как вставать — баба оладий напекла, мы, как кабаны, нашамались с нею, аж газ пущали...
Горбун умолк, смех его оборвался, кровь ушла из его лица.
— Ты к стенке нас ставить пришел, — сказал он тише, — ты тиранить нас пришел белой своей головой, мучить нас — только мы не станем мучиться, Ваня... Нам это — скука в настоящее время — мучиться.
Горбун придвигался на тонких вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице.
— Тебя убить надо, — прошептал он, догадавшись, — я за пистолью пойду, уничтожу тебя...
Лицо его просветлело, радуясь, он тронул руку Колывушки и кинулся в дом за дробовиком Тымиша. Колывушка, покачавшись на месте, двинулся.
Серебряный свиток его головы уходил в клубящемся пролете хат. Ноги его путались, потом шаг стал тверже. Он повернул по дороге на Ксеньевку.
С тех пор никто не видел его в Великой Старице.
Соль земли
Валерий ДРУЖБИНСКИЙ
Внучки Ивана Колывушко Елена Петровна и Нина Петровна - дети его дочери Марии |
«Красное колесо» революции и Гражданской войны жестоко прокатилось-проехало по этому селу — более 200 мужчин не вернулись к родному очагу.
Прошло несколько лет, и жизнь села стала постепенно налаживаться. В бывшем доме помещика Николая Вишневского оборудовали клуб, избу-читальню, спортивный зал. Многие хозяйства встали на ноги: на подворье по две-три коровы, лошадь, поросята, много птицы, а в огороде и в поле в течение ряда лет — высокие урожаи зерна, картофеля, овощей и фруктов. К 1926 году Великая Старица стала центром сельсовета, объединившего несколько населенных пунктов. В селе открылась школа-десятилетка. На 1 января 1927 года в Великой Старице проживало 1806 человек.
Раскулаченные жители Сталинской (сейчас Донецкая) области покидают родное село. 1931 г. |
К началу 1930 года массовая коллективизация в Бориспольском районе Киевщины, а значит, и в Великой Старице, достигла апогея, а раскулачивание «прославилось большими достижениями, успехами и победами во славу нашей советской земли», как писала районная газета «Труженик» 22.02.1930 года.
Именно об этом времени и рассказывает «Колывушка» Исаака Бабеля. Все герои — подлинные жители села.
Раскулачивание крестьян в с. Удачное Сталинской (сейчас Донецкая) области. 1931 г. |
Иван Демидович, как это и описано в рассказе Бабеля, ушел из села. Долгие годы прятался, боясь, что за уничтожение собственного скота его непременно арестуют и отправят в Сибирь. Был хорошим кровельщиком, печником и, не имея собственного дома (а Соломия Яковлевна умерла через год после раскулачивания), жил у разных людей, зарабатывал на еду и ночлег мастеровыми руками.
В 1958 году женился в селе Сулимовка, но ему и в этот раз не повезло — жена через год умерла. Вот тогда он и вернулся в родное село, построил на окраине маленькую хатку и прожил в ней до самой смерти. Умер в 1962 году. Так и не записался в колхоз. Рассказывают, что Иван Демидович был очень скрытным человеком, в гости к своим детям всегда ходил только по ночам. И никогда не фотографировался…
Дети Ивана Демидовича давно умерли, да и большинство внуков. Сегодня в селе проживают только две внучки главного героя «Колывушки».
Сбор мерзлого картофеля в колхозе им. Д.Бедного на Донетчине. 1933 г. |
37 г. Решением президиума Киевского областного суда от 26.05.63 г. постановление «тройки» от 25.04.37 г. отменено, дело прекращено за недоказанностью обвинения».
Председатель колхоза Житняк (Житник Иван Федорович) тоже репрессирован, но уже в 1939 году, получил 10 лет лагерей («колхозное вредительство»).
Голова сельсовета Евдоким Назарович Назаренко умер 16 мая 1933 года в возрасте 43 лет (о чем есть запись в книгах районного ЗАГСа)…
Многие сельчане умерли в это время. Историки приводят такие цифры: в 1933 году в селах Бориспольского района проживало 63206 человек. Родилось 709 человек, а умерло 26428 человек.
В районном ЗАГСе чудом сохранилась старая книга записей смертей жителей Великой Старицы за период с 17 апреля по 10 сентября 1933 года. За неполные пять месяцев в селе умерло 227 человек. Вот несколько записей: «Колывушко Тихон Нечипорович, 80 лет, единоличник-хлебороб. Мовчан Ивга Романовна, 50 лет, кулачка. Лисак Алексей Данилович, 2 месяца, колхозник. Мовчан Устя Афанасьевна, 52 года, кулачка. Колывушко Евдокия Федотовна, 2 года, единоличница. Мовчан Ольга Мойсеевна, 4 года, куркулька. Стасюк Трофим Герасимович, 12 лет, колхозник. Савченко Григорий Павлович, 29 лет, единоличник…». Голодная смерть не щадила ни колхозников, ни единоличников, ни стариков с детьми… А ведь нет, не должно быть таких идей, которые стоили хотя бы одной человеческой жизни!
Делегаты VI сессии ВУЦИК от Солонянского сельсовета на Днепропетровщине передают Г.Петровскому подарок от колхозников. Первый слева — С.Косиор. 1933 г. Фото: из книги «УКРАЇНА: XX століття» |
Что дальше? А дальше была война — с 23 сентября 1941 года по 23 сентября 1943 года в селе зверствовали немцы и полицаи. Многие сельчане были угнаны на работу в Германию и оттуда не вернулись, 28 человек были расстреляны как заложники — на станции Борисполь разворовали фуру с мукой, след привел немцев в Великую Старицу... Часть сельчан ушли на войну и погибли — мемориальная стела в их память стоит в центре села, а Никите Ивановичу Стасюку поставлен отдельный памятник. Он — Герой Советского Союза, обеспечив форсирование своего подразделения через Днепр, погиб 20 октября 1943 года. В Борисполе и в Великой Старице улицы носят имя Никиты Стасюка.
Потом были долгие годы восстановления порушенного войной хозяйства с их голодоморами, засухами, укрупнениями и разукрупнениями колхозов. После чего наступил небольшой передых — 80-е годы. И вдруг снова злыдни — перестройка, реформа... Толковые словари все как один утверждают, что реформа — это когда от плохого идут к хорошему. А как назвать процесс, когда от плохого идут к худшему? Словари об этом молчат.
90-е годы оказались для Великой Старицы весьма трудными. Народ стал покидать родные места. Колхоз распался, землю селяне вроде бы получили, но обрабатывать ее было нечем. Десять лет не было работы и, значит, зарплаты. Ничего не поделаешь, исправная машина капитализма не ждала нас за порогом, тем более что в Украине не было и не могло быть класса частников, хозяев. Земли Великой Старицы зарастали бурьяном, фермы стояли без окон и дверей…
И вот пять лет назад по инициативе бывшего министра сельского хозяйства Украины Юрия Карасика в Великой Старице и соседних селах создано акционерное общество. Нынче на ферме Великой Старицы откармливают одновременно семь тысяч поросят. Все земли вокруг обрабатываются и дают хорошие урожаи пшеницы, ячменя и кукурузы. На ферме — идеальная чистота, работники ходят в специальных тапочках. Хороши зарплаты: свинарка получает полторы тысячи гривен, а комбайнеры и механизаторы — до двух-трех тысяч. За каждый пай, переданный в аренду акционерному обществу, селяне получают по 500 кг пшеницы, 250 кг ячменя и 250 кг кукурузы в год, а в семьях — по два-три пая. Люди довольны.
Великая Старица, по сравнению с другими селами, весьма благополучна. Есть работа как в самом селе, так и в Киеве, куда шесть раз в день ходит автобус. И тем не менее село тает. Сейчас здесь 846 жителей, из них 280 — пенсионеры. За прошлый год родилось 10 человек, а умерло 72…
А что думает о своей жизни дальняя родственница Ивана Колывушко девяностошестилетняя Мария Васильевна Хамбир, о чем вспоминает она в конце своего пути? «Нынче жить хорошо, сытно — голода нет. Ведь голод страшнее войны. Когда был голод, то, слава Богу, мы собирали кору цветущей ольхи, варили, сушили, протирали в ступе и ели до тех пор, пока снова не зацветет. А кто не смог целый год есть ольху — умер. А война не страшна, только голода боюсь… Вы обо мне много не пишите. А вдруг все повернется назад? Что тогда со мной будет?..»
Выражаю искреннюю благодарность председателю Сеньковского сельсовета (куда входит и Великая Старица) Вере Гончаренко, и.о. директора Бориспольского государственного музея Татьяне Гойде, краеведу Александру Мищенко, а также сотрудникам Государственного архива Киевской области и Центрального государственного исторического архива Украины за помощь в сборе материала. Кстати, на суровом «архивном фоне» диковато смотрятся портрет Ленина, выполненный из хлебных зерен, и «рисовый» Брежнев — подарки комсомольцев Киевщины съездам КПУ.
За эти годы вожди так и не заколосились...

















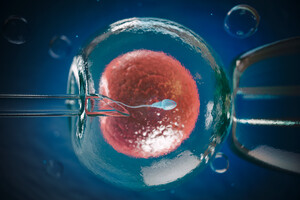
 Войти с помощью Google
Войти с помощью Google