Как заголовок использована строка из воспоминаний Хрущева, опубликованных в журнале «Огонек» (1989 год). Никита Сергеевич довольно подробно писал об одном из лучших певцов Украины - Борисе Гмыре (1903-1969), выдающемся исполнителе, голос которого очаровывал современников и гипнотизирует потомков. Слава богу, сохранились его записи.
Судьба Гмыри - сложная и непростая. Кроме творческих взлетов, ему известны и годы «недоверия». Оказавшись в «жерновах» истории, Гмыря какое-то время находился на оккупированной гитлеровцами территории Украины. И, конечно, не все ему это простили.
Этот драматический период его жизни нашел отображение в новой книге «Борис Гмыря. Дневники. Щоденники. 1936-1969», вышедшей в харьковском издательстве «Фолио» (составитель и автор-сопроводитель текстов Анна Принц).
Для музыкального мира Украины появление «Дневников» Гмыри - без преувеличения, событие. Певец и его время возникают из книги без грима и ретуши. И, возможно, самое главное, что приоткрывается читателю, - большой повседневный труд гениального певца, его кропотливая работа над оперными партиями, камерными произведениями, наконец, над самим собой. Возможно, и не возникнет у современного читателя (после знакомства с «Дневниками») вопросов наподобие «Почему тогда были великие певцы, а сегодня?..» - потому что Гмыря из расстояния времен словно сам и отвечает: Потому что тогда для исполнителя превыше всего была творческая работа, а не «медийная» жизнь, как сейчас у многих…
Гмыря в своих заметках - это абсолютное углубление в музыку. А еще - педантичная фиксация почти каждого своего творческого движения и шага.
Говорят, описать музыку словами невозможно. Но словами же можно описать судьбу… Интонацией судьбы и пронизаны его записи.
Потребность вести дневник - одна из загадок человеческой натуры. Надеялся ли сам Гмыря, что когда-то его записи кто-то прочитает? Очевидно, да. Ведь он принадлежит к немногим певцам, относившихся к собственному архиву с образцовой аккуратностью. Его записи довольно лаконичны. Большей частью певец фиксировал основные этапы своей творческой биографии. И изредка писал о наболевшем.
Замечу, что дневники всегда выгодно отличаются от мемуаров. Недаром же Анна Ахматова говорила, что каждый мемуарист невольно искажает чужую прямую речь и пытается представить себя самого в наилучшем свете...
Другое дело - дневники. Здесь больше мера достоверности, больше концентрация мысли.
Особенно интересные места в книге - страницы биографии певца времен немецкой оккупации (его пребывание и работа в Каменце-Подольском, Харькове и Полтаве).
До сих пор вокруг этого периода возникает больше всего споров и даже безосновательных обвинений. Теперь сам читатель может составить соответствующую картину прошлого. Пересмотрев тогдашние записи, видим, что в них есть большие паузы - а именно между мартом 1942-го и июлем 1944 года…
На этом отрезке записи нерегулярные. Борис Романович делал их с перерывами. Кроме того, в соответствующей тетради он «резервировал» девять незаполненных страниц…
Впрочем, некоторые «белые» страницы устроитель заполнил актуальными фрагментами журналистских публикаций, а именно: «Говорят, что выдающийся певец Гмыря, будучи в оккупации, пел в бункере Гитлера «Вервольф». Впоследствии подвергался гонениям от коллег, некоторые и не здоровались: не патриот, мол. Так думали те, кто возвратились в Киев из Башкирии или Казахстана - хотя и не совсем комфортабельных (курортных) районов, а все же защищенных от черных оккупационных будней. Вот прошло много лет. И думается мне: а меньшим ли был патриотом Гмыря, чем его коллеги, которые были в эвакуации? А может, большим? Ведь он пел «Дивлюсь я на небо», «Вітер віє, вітер буйний» и другие украинские песни» (из очерка Михаила Медуницы).
А вот и фрагмент воспоминаний Никиты Хрущева, который хотел оставить Гмырю в Киевской опере: «Сталин тогда согласился со мной: «Да, возьмите!» Я не ошибся. Сейчас же стали голоса раздаваться: «С изменником Родины мы не будем спивать, не будем». Я знал, откуда это исходит. Тут был и патриотизм, но здесь была и зависть… Сейчас копаться, отыскивать виновных и наказывать тех, кто остались с немцами, надо с умом. Иначе миллионы надо наказывать. Они остались, а у них другого выхода не было. Надо подойти более серьезно и здраво при оценке и определении своего отношения к каждому лицу, которое оставалось на территории, занятой немцами…»
Из книги можем узнать и о том, как Гмыря пришел в гости к Хрущеву, чтобы поговорить откровенно, когда тот приехал в Закарпатье.
Есть в «Дневнике» и рассказы о шантаже и притеснениях, которые испытал певец в киевском театре.
Есть сюжеты о досадных недоразумениях, а именно-выход статьи за подписью Гмыри в «Известиях», которую редакция коварно опубликовала без согласия певца.
Упоминается о чрезвычайно теплых творческих отношениях Гмыри и гениального Дмитрия Шостаковича, а также об Иване Паторжинском, которого Хрущев называл «главным борцом» с Борисом Гмырей.
В общем, кроме музыкальных перипетий, со страниц издания возникает Эпоха во всем ее разнообразии.
Вообще в «Дневниках» - следы повседневной работы мастера. Репетиции, уроки с концертмейстерами, концерты, программы, спектакли, записи, мысли о технике пения и исполнительстве. Педантично записывается количество выступлений за каждый месяц, а кое-где - и суммы гонораров.
Читателю не придется блуждать в поисках контекста событий. Здесь присутствует живое бытие повседневности Артиста. По наполнению книгу можно сравнить с двухтомником «Летопись жизни и творчества Шаляпина» - ведь в рецензированном издании, кроме дневников, содержится множество сопроводительных текстов, указателей, иллюстраций, что и превращает его в настоящую летопись.
К 1963 году принадлежат записи, посвященные съемкам Гмыри в фильме-опере «Наймычка» на музыку Михаила Вериковского. Не будем излагать подробности, пусть читатель сам убедится в принципиальности позиции Гмыри по поводу ленты. Но здесь напрашивается одно наблюдение: это дневники артиста, человека, который должен был доказывать, что и один в поле - воин. Причем доказывать так, чтобы не потерять чувства достоинства.
Например, запись от 5 марта 1964 года иллюстрирует коварное, немыслимое в наше время (хотя - кто знает) отношение Системы к певцу: «Сольний концерт у Київській філармонії з творів [на слова] Шевченка. Успіх великий. Збір - 80%. А в касі не продавали квитків, мотивуючи тим, що їх немає. Ан, бач, от як буває!» И больше ничего… Очевидно, Борис Романович рассчитывал, что когда-то его слово придет к читателю. Но никого не обвиняет. Не выливает «негатив» даже в дневниковых записях. Это может служить примером безупречной порядочности, очень непопулярной в сегодняшних артистических кругах. Мнения высказаны словно с намеком, дескать, умный сам поймет.
А теперь - «по ту сторону зеркала». Что же это за крамольная шевченковская программа, которую певец предлагал киевскому слушателю в далекий весенний день 1964 года?
Несколько романсов Лысенко
и народных песен на стихи Кобзаря, произведения Юлия Мейтуса и Якова Степового, чьи ноты не раз издавались и переиздавались даже во времена советского тоталитаризма…
Что же здесь опасного?
Ответ простой. Лицо Гмыри, магия его искусства пробуждали у слушателя уверенность в том, что украинский камерный репертуар стоит рядом с наивысшими образцами европейской романсовой музыкальной литературы. Понятно, такой вывод нельзя было вживлять в сознание тогдашних посетителей филармонии.
Сохранились отклики о том концерте российского баса Евгения Нестеренко, который слушал Гмырю в Ленинграде и уверял, что шевченковскую программу едва ли кто-то исполнит так, как Борис Романович. А мы как? Так и находились в плену хуторянских настроений неполноценности. И даже сегодня в Википедии утверждается, что в репертуаре Ивана Козловского были «политически опасные» произведения - «Мені однаково», колядки и прочие. Что уж говорить о Гмыре, который пел шевченковские программы, в том числе в России и других республиках СССР?
Продолжая, посмотрим на соответствующие заметки певца. Ровно через три месяца он убедился, что его исключили из программы московского юбилейного концерта в честь Т.Шевченко. В дневнике появляется запись: «З концерту знімають, буцімто спізнився - і тому зняли з програми. Хамство! Дзвонив секретареві [українського - !] ЦК, але, каже, що прийме після Москви… На ювілейному вечорі за дві години до початку запропонували замість «Думи мої» заспівати «Эй, ухнем!» Відмовився. Більше не запрошували! Я роблю це все для Кобзаря, а не для того, щоб самому щось отримати».
Тут и прорывается зерно, которое нес в себе Гмыря. Он был бессребреником, одним из немногих, кто был тогда и остается по сей день отчаянным носителем национальной идеи. Сегодня такие слова звучат привычно, почти банально, но задумаемся, чего это стоило Борису Романовичу в те годы…
Если уж говорить о шевченковском и вообще украинском репертуаре, то Гмыря исполнял его так, что ни у московских, ни у ленинградских его почитателей не возникало и мысли о провинциальности и второстепенности украинской музыки. Потому что Гмыря опережал свое время…










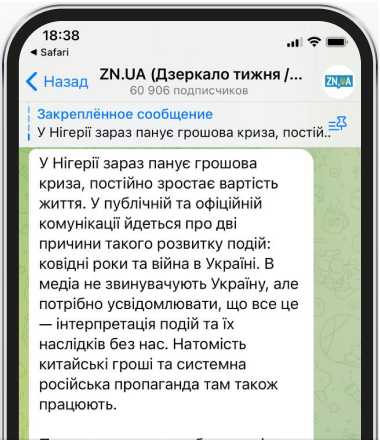







 Войти с помощью Google
Войти с помощью Google